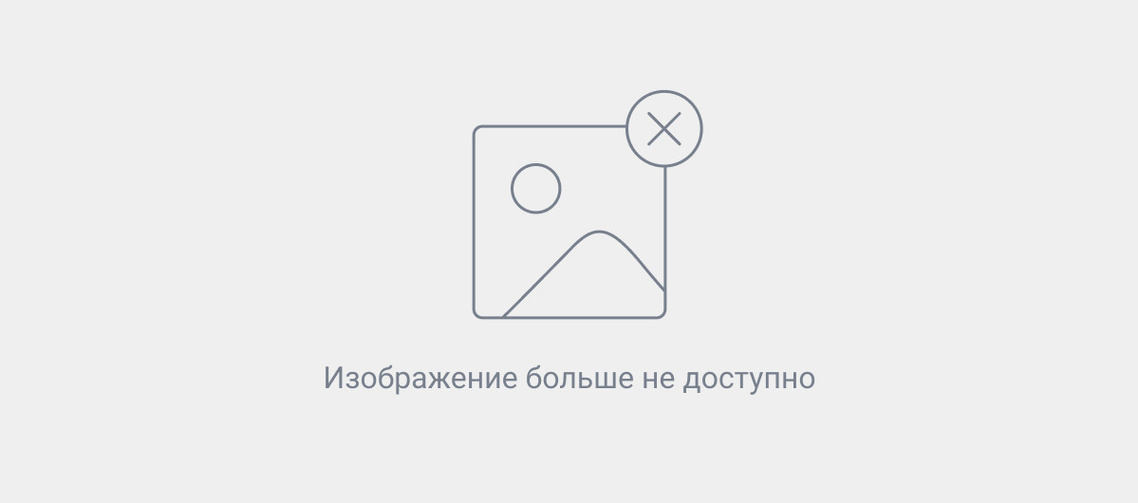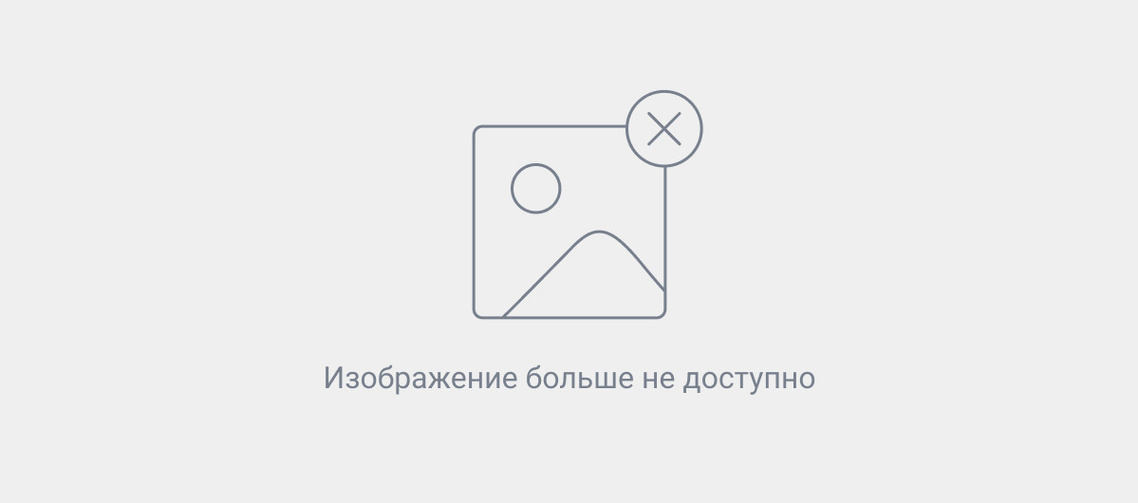
 Поделиться
ПоделитьсяСегодня в МДТ – Театре Европы поздравляют с 85-летием заслуженную артистку России Светлану Васильевну Григорьеву. В этом театре актриса работает последние 60 лет и сыграла более 50 ролей, среди которых Луиза в «Коварстве и любви», Нюра в «Вечно живых», Ассунта в «Татуированной розе». Староверку Марфу Репишную в легендарных додинских «Братьях и сестрах» она играет до их пор.
Коллеги зовут Светлану Григрьеву рыцарем театра, потому что сейчас, как и всегда, она в курсе всех творческих дел в МДТ, включая и дебюты сегодняшних новобранцев. Она предана профессии и своему театру-дому самоотверженно и бескорыстно: любая роль, хоть Мачеха в «Золушке», хоть острохарактерные образы в комедиях-однодневках Рацера и Константинова, оттачивалась ею до нюансов, в полном соответствии со стилем и с замечательным чувством юмора. В молодости она снялась у Козинцева, сыграв племянницу Дон Кихота – Черкасова, но из воспоминаний Светланы Григорьевой о первом, послевоенном, десятилетии в театре, которые публикует «Фонтанка», очевидно, что именно театр для нее с самого начала был занятием высшего сорта, хотя театральный быт и оплата труда были в те времена гораздо дальше от идеальных, чем даже и нынешние. Фактически эти воспоминания восстанавливают смысл понятия "служение театру", почти отошедшим в историю.
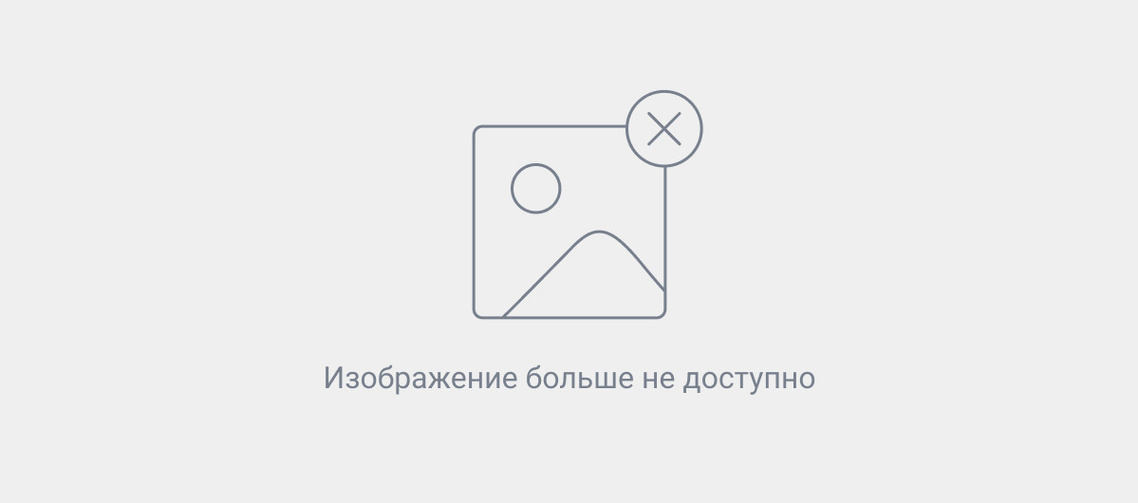
 Поделиться
Поделиться
Молодежь в театрах была редкостью
"...1950-й. Мы с нашими мастерами (н.а. СССР Борисом Елисеевичем Жуковским и Владимиром Владимировичем Эренбергом) отмечаем окончание Ленинградского театрального института на крыше гостиницы «Европейская». У нас банкет. Мы – артисты! Это ощущение немедленно подкрепляется знакомством с Владимиром Михайловичем Зельдиным - мы с моей однокурсницей Галей Борщевской встретились с ним в лифте. Зельдин был в то время очень популярный и любимый, особенно нашим курсом, артист. Конечно, мы его пригласили на крышу. Он пришел с двумя хризантемами, для нас с Галей. Всех поздравил, извинился за усталость, и ушел отдохнуть, пригласив весь курс на следующий день к себе в номер.
Когда мы вошли в номер, мы просто обалдели от того, как он нас встретил: сидя в кресле понурый. И мы никак не могли в нем узнать того Альдемаро, которым мы так восхищались на сцене. Мы спросили у него, почему он сегодня совсем не такой. А он ответил: «В свободное время я стараюсь сосредоточиться и собрать силы для следующего спектакля». Нашему курсу повезло. Мы смотрели этот замечательный спектакль «Учитель танцев» столько раз, сколько он игрался на площадках домов культуры Ленинграда. Смотрели из оркестровой ямы, с балконов, из-за кулис, - отовсюду, куда только можно было проскользнуть. Юра Енакян не только знал весь текст Альдемаро, но и пытался так же двигаться и танцевать… Не получалось! Да, Зельдин был великолепен. И сама по себе эта встреча была для нас лучшим подарком на выпускной.
После банкета, конечно, белые ночи, прогулки, а потом… поиски театров, где хотелось бы работать, жить, играть. Наш курс почти в полном составе прошел с показами своих отрывков по всем театрам, но никого из нас никуда не взяли. Такое было время – театров мало. Труппы, годами складывавшиеся, были полны замечательными актерами. Появление молодых в театрах было большой редкостью. Исключение, пожалуй, составили Игорь Горбачев, Лида Штыкан, Зинаида Шарко. На выпускников института приходили из министерства пофамильные заявки, и театральная молодежь разъезжалась по стране, надеясь наработать репертуар, чему-то еще научиться и уже с опытом вернуться завоёвывать зрителей Ленинграда. Так мы и разъехались - кто куда. Я, Юра Енакян и Сережа Щеников получили направление в Кемеровский театр.
Через год мы вернулись домой. За год все, конечно, забыли о нашем существовании, до такой степени, что даже «Ленфильм» перестал вызывать на пробы. Всё надо было начинать сначала. Какое-то время я работала в эстрадном ансамбле Саши Блехмана – играла в миниатюрах. Ставил их Борис Вульфович Зон (легендарный театральный педагог, актер, режиссер, учитель Алисы Фрейндлих, Льва Додина, Натальи Теняковой. - Прим.ред.). Всегда элегантный, подтянутый, остроумный, с бабочкой. Но это длилось недолго. Ансамбль прекратил свое существование. И тогда я вспомнила, что еще на 4-м курсе, когда шли дипломные спектакли, ко мне несколько раз подходил пожилой застенчивый мужчина - художественный руководитель Ленинградского областного Малого драматического театра Иван Яковлевич Савельев. Он приглашал меня к себе в театр на роль Негиной в «Талантах и поклонниках» Островского. «Негина? В областном театре с бесконечными выездными спектаклями? Никогда!» - решила я тогда. Казалось, закончу институт и выберу сама себе, что хочу. Но когда стало совсем плохо без театра, без любимой работы, я, как крыловская стрекоза, пошла искать своего муравья. И я его нашла. В клубе завода «Прогресс» на Выборгской стороне. Зашла, услышала голоса репетирующих актеров Малого драматического. Но Ивана Яковлевича Савельева в театре уже не было. «Кто же теперь главный режиссер?» - спросила я проходящего мимо актера. «Клитин Станислав Сергеевич». Славу Клитина Игорь Горбачев привел как своего одноклассника к нам в театральную студию при ДПШ. И он в 1945-м, а мы с Горбачевым в 1946-м – поступили в Театральный институт. Славе Клитину нужна была актриса, и он с удовольствием пригласил меня в театр. Я получила роль в новой постановке. Это была пьеса узбекского драматурга лауреата Сталинской премии Абдуллы Каххара, «Шелковое сюзане». Еще меня срочно ввели в спектакль «Студент третьего курса».
Театр был областной, без своего дома, без своего зрителя. Я спросила одну молодую актрису, как долго она работает в этом театре, она ответила: «Два года». «Боже, какой ужас», - подумала я. И осталась здесь на 60 лет!
Репетиции под похоронный марш
На улице Рубинштейна, дом 18, где сейчас расположен МДТ – Театр Европы, размещалась администрация трех областных театров. Играли в основном в Ленинградской области. В начале каждого года заместитель директора М.Ф. Сараев раздавал всем актерам планы выездных параллельных спектаклей вплоть до лета. Осенью начинали репетировать новые спектакли. Репетировали, где придется: в домах культуры, в клубах, в подвалах. Помню первую репетицию комедии «Шелковое сюзане». У нас комедия, а из окна раздается траурный марш. Это духовой оркестр кого-то провожает в последний путь. Напротив клуба при больнице им. Куйбышева оказался морг. Как-то репетировали в клубе куйбышевского ломбарда, в другой раз – в кинотеатре «Молодежный»! А однажды, около года, репетировали даже в БДТ. Нам, как «ближайшим родственникам», выделили небольшую аудиторию. Но это было недолго. Мы подружились с артистами БДТ, ходили на спектакли, но с годами дружба как-то расстроилась.
На первых репетициях «Шелкового сюзане» я приглядывалась к коллегам, с которыми придётся играть. Около меня за столом во время читки пьесы сидела маленькая неопределенного возраста актриса, которая после своих реплик, все время наклоняла голову под стол. Это была наша всеми любимая Евгения Аркадьевна Баркан, Жеша (актриса МДТ, 1914 – 2001 гг. - Прим.ред). Оказалось, что она в свободное от текста время «делала себе лицо». Это ее любимое выражение, означавшее делать макияж.
Со спектаклями «Студент третьего курса» и «Шелковое сюзане» я выехала в первую поездку в Калининград, вернее, в разрушенный войной Кенигсберг. От вокзала ехали автобусом. Кругом развалины. Ночь, луна, гробовая тишина, пахнет войной, жуть! Но, проспав ночь в Доме офицеров, с утра уже все собирали на берегу янтарь. Спектакли принимались тепло. Телевизоров в то время не было. И театр в области ждали, как праздника. Стены Дома культуры были расписаны нашими именами.
После спектакля – горячая картошка и ведро грибов
Помню, в Паше играли «Коварство и любовь». На улице мороз. Зритель в зимних пальто, платках, валенках. Я, уже «отравленная», лежу на полу, и внезапно движок останавливается, свет гаснет. Боюсь шевельнуться, а вдруг зажжется свет, и зритель увидит меня «ожившую». Но через несколько минут сцена осветилась. Наши дорогие зрители сбегали в ближайшие дома и принесли керосиновые лампы. Все было сделано очень быстро. Мы доиграли, и финал получился невероятно красивый.
Разъезжали по области в своей единственной грузовой машине. Сидели на ящиках. Три раза попадали в аварии. Один раз из-за аварии спектакль был отменен, и нас вернули домой. Хорошо, живы остались.
Иногда нанимали автобус. Один из автобусов был с задними дверями. Так что, когда мы отъезжали, на улице Рубинштейна собралась толпа народу, все спрашивали: «А кого хоронят?»
Жилищные условия в области были тоже очень сложные. Давали две комнаты: для мужчин и для женщин. А на сценических площадках помощник режиссера первым делом обеспечивала нас ведром для определенного рода нужд. А вот когда играли спектакли в Будогощи, гостиниц не было. И нас расквартировывали по избам. После спектакля - на столе горячая картошка, ведро грибов, горячий чай, и добрая гостеприимная хозяйка хлопочет.
Режиссеры и директора менялись как перчатки. А вот труппа долгое время почти не менялась. Коллектив был, в основном, молодой и очень дружный. Не было интриг, зависти. Все много работали и не только играли свои роли, но и боролись, да, боролись за выживание нашего театра.
Как я отказалась стать руководителем МДТ
Сцену и зрительный зал на Рубинштейна, 18, делили три театра: наш – МДТ, Областной и Гастрольный. Играли в очередь. Неожиданно два театра объединились в один, сейчас это драматический театр «На Литейном». И мы остались единственными хозяевами. В театре одна гримерная женская, вторая – мужская, обе под сценой и без окон. С другой стороны – кабинеты директора, главного режиссера и бухгалтера. И больше ничего. Но все равно возникла угроза выселения! Управление культуры решило, что раз мы областной театр, надо перевести нас в стационар в область. Шли разговоры о Лодейном Поле и Выборге. И, хотя мы уже стали интересоваться адресами в Выборге, выяснять, где будем прописаны, театр нам все же удалось отстоять. Нас оставили в городе. А это были очень трудные времена, когда мы месяцами жили без режиссера и директора. Был такой год, когда молодой актер Юра Ремпен принес какую-то пьесу и решил ее сам поставить. Репетировали долго, но пьеса зрителей так и не дождалась. Меня вызвал к себе зам. директора и сказал, что Управление культуры просит его уговорить меня принять на себя руководство театром, то есть просили меня стать директором, мол, я давно в театре, большая общественная работа и т.д. Я обиделась и сказала: «Я актриса. Я хочу играть, а не заниматься бухгалтерией». И, хлопнув дверью, ушла. Через много лет пожалела.
Как меня «резали»
Времена постепенно менялись. М.Д.Рахманов стал новым главным режиссером. Для первой постановки в этом качестве он выбрал очень знаменитую в то время пьесу Афиногенова «Машенька». Мне он сказал приблизительно следующее:
- Я хочу, чтобы вы играли Машеньку, но меня смущает, что вы слишком высокая, будем резать!
И меня порезали. Костюм мой был придуман таким образом, как будто я стремительно из него выросла. Получился такой гадкий утенок. Эту роль я очень полюбила, спектакль пользовался успехом и прошел более двухсот раз. На смотре «Молодые актеры Ленинграда» за роль Машеньки я получила диплом и 300 рублей премии.
Зарплаты были маленькие. Все актеры жили в долг. Было две кассы: взаимопомощи и «черная касса». Во время отпуска мы - основная инициативная группа – выезжали на шефские спектакли в Северо-Западный пограничный округ. Возили комедию «Женатый жених». Денег нам не платили. Кормили и давали суточные. А все отпускные уходили на возврат долгов.
Как «Женатый жених» накормил нас до сыта
Спектакль «Женатый жених» поставил пришедший, и не просто пришедший, а вытребованный труппой в Управлении Культуры набиравший известность режиссер Яков Хамармер. Поставил за один месяц. С 3 мая по 3 июня. Это не было каким-то высоким творческим достижением, но мы работали увлеченно, спектакль был легкий, веселый, и в то же время социально острый. Зрителям он очень нравился, поэтому «Женатый жених» кормил нас не один год. В общей сложности мы сыграли его 800 раз.
Однажды заехали в какую-то глухомань, деревня, кажется, называлась Чучки. Сыграли «Жениха», и в благодарность директор клуба и секретарь парторганизации колхоза пригласили нас в местную контору. Это, видимо, был самый благоустроенный дом. Когда мы вошли, первое, что бросилось в глаза – ящик водки. Нас было много, и все были молодые и крепкие, но дело не в количестве водки. Нас так принимали, благодарили и так угощали, что вот уже прошло столько лет, а перед моими глазами раскосое лицо молодой женщины, Шурочки, которая специально для нас готовила в русской печи щи. К нашему приезду зарезали барана, и щи были с бараниной, у нас просто дух захватило. Времена, все-таки, были еще не особенно сытые. Мы целый вечер разговаривали, пели, пили, ели и, надо отметить, что в гостиницу мы вернулись в прекрасной форме и прекрасном настроении, и рано утром на следующий день поехали покорять очередную деревню.
Автобус от замминистра
Автобусов в театре не было. В начале 60-х я была выбрана делегатом съезда работников культуры в Москве. И директор попросил похлопотать, если будет момент, об автобусе. Нужно было поговорить с Фурцевой, тогдашним министром культуры, но она прочла доклад, ушла и больше на съезде не появилась. Знакомые делегаты посоветовали мне поговорить с заместителем Фурцевой Кузнецовым. В перерыве я уныло стояла в буфете и наблюдала за толпой мужчин, окруживших Кузнецова. Нечего было и думать пробиться через эту толпу. Наконец, перерыв закончился, я осмелела и подошла к Кузнецову, допивавшему за столиком кофе. Я с улыбкой представилась и разразилась монологом про наше бедственное положение. Объяснила, что я из Ленинградского передвижного театра, что живется нам очень трудно, потому что передвигаться, собственно, нам не на чем, нет своего транспорта. Не забыла эпизод с автобусом, который люди приняли за катафалк. Кузнецов меня внимательно выслушал и сказал: «Завтра утром на столе у меня должны быть все документы». Я кинулась звонить директору. На следующее утро на Ленинградском вокзале я встречала поезд, в котором проводница везла мне необходимые бумаги.
Прошло несколько месяцев. Никакого автобуса не было. В театре надо мной сначала посмеивались, а потом просто стали дразнить: «Ну что, съездила за автобусом к министру? За семь верст киселя хлебать». Однако примерно через полгода раздался звонок. Нашего шофера вызвали в Павловск, где тогда выпускали маленькие автобусы. Так мы получили автобус ПАЗ, не комфортабельный, но свой.
Во время долгих переездов в автобусе мы играли в преферанс - в театре прямо эпидемия была, заражены были все – от худрука до шофера. И много пели. Пели на голоса, красиво. Нам было хорошо, и старшее поколение любило слушать нас.
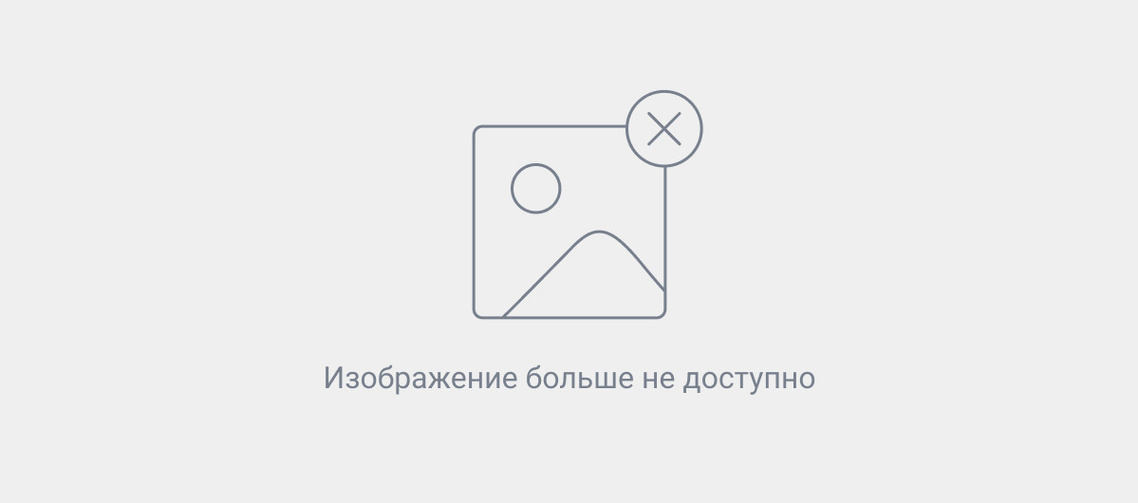
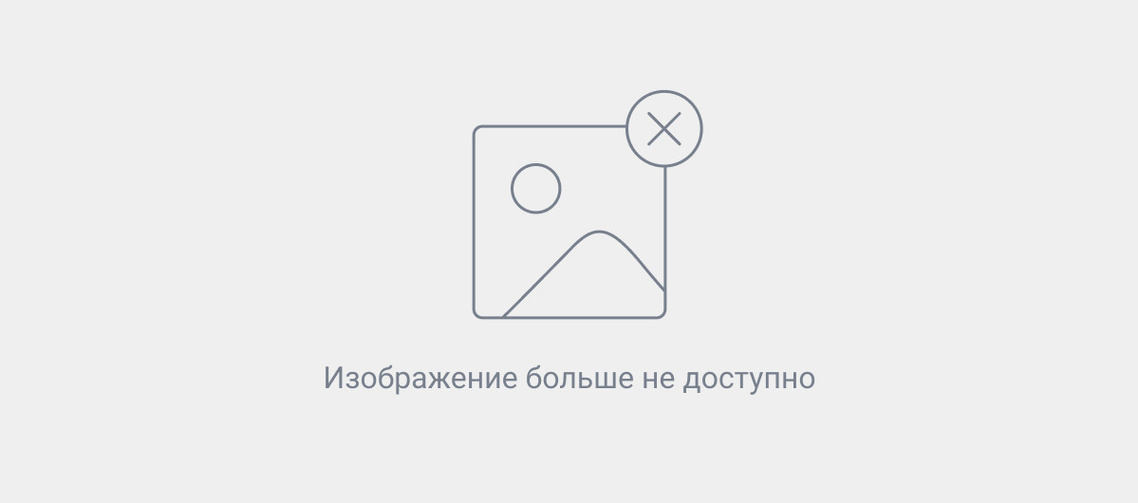
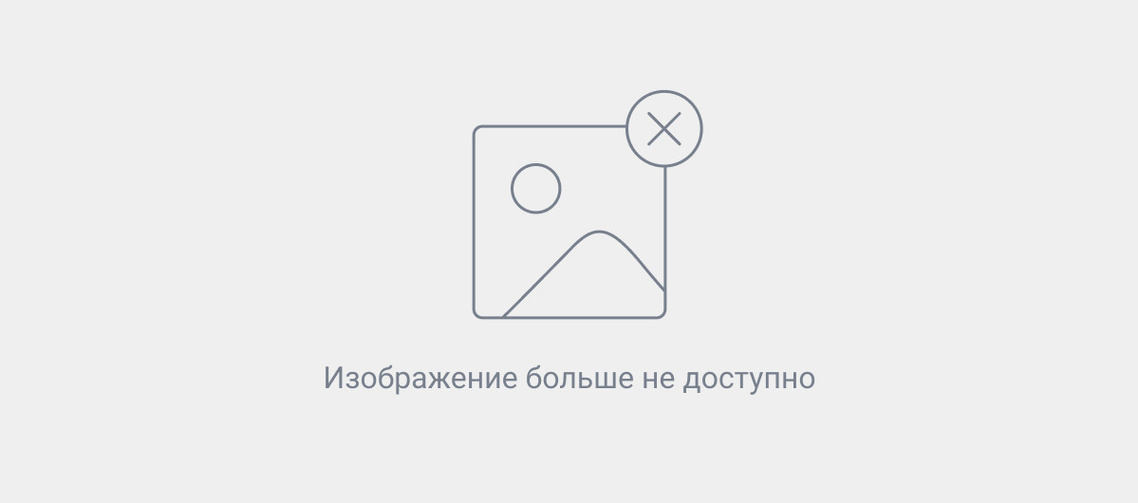
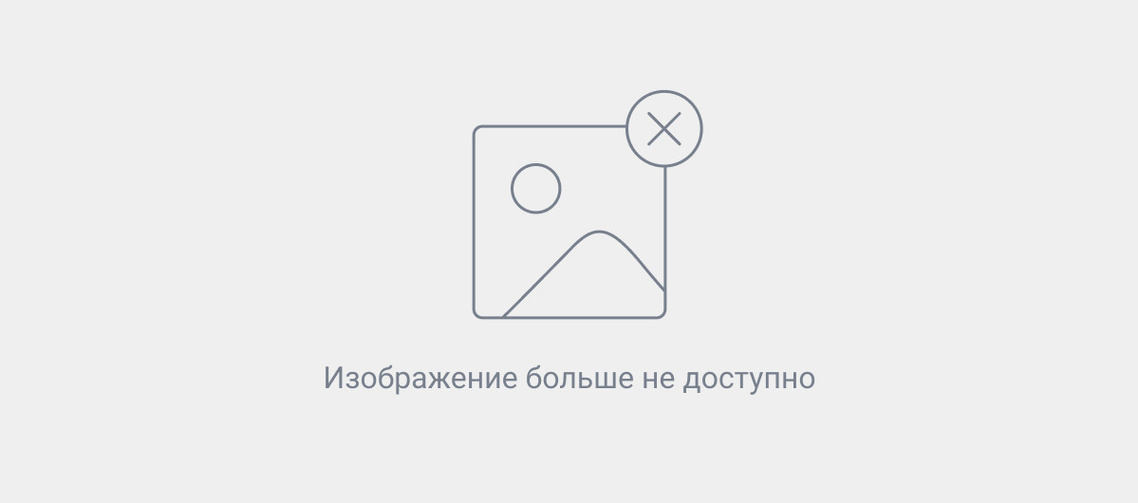
 Поделиться
Поделиться