Мария Рольникайте: «История учит тому, что она ничему не учит»

фото: Михаил Огнев
27 января — Международный день памяти жертв Холокоста
Он был установлен Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года по инициативе Израиля, России, Украины, Канады, Австралии и США. 27 января 1945 года советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау).
В этот день «Фонтанка» публикует интервью с Марией Рольникайте, которое ранее публиковалось только отдельными фрагментами.
Дочь адвоката, автор книги «Я должна рассказать» четырнадцатилетним ребёнком попала под оккупацию нацистов в Вильнюсе и прошла через два концентрационных лагеря. Её мать, младшие брат и сестра погибли при ликвидации гетто. Всё это время Мария Рольникайте вела дневники, несмотря на риск быть пойманной. И хотя она даже через десятилетия досконально помнила все даты и скрупулезно описывала последовательность событий, главное в публикуемом тексте не это, а скорее «картина ада на земле».
Этот рассказ — одно из последних свидетельств ада от «первого лица». Рассказ человека, который смог вернуться оттуда живым.
Дочь адвоката, автор книги «Я должна рассказать» четырнадцатилетним ребёнком попала под оккупацию нацистов в Вильнюсе и прошла через два концентрационных лагеря. Её мать, младшие брат и сестра погибли при ликвидации гетто. Всё это время Мария Рольникайте вела дневники, несмотря на риск быть пойманной. И хотя она даже через десятилетия досконально помнила все даты и скрупулезно описывала последовательность событий, главное в публикуемом тексте не это, а скорее «картина ада на земле».
Этот рассказ — одно из последних свидетельств ада от «первого лица». Рассказ человека, который смог вернуться оттуда живым.
Ликвидация гетто
“
В Вильнюсское гетто нас загнали 6 сентября 1941 года. Ликвидировали его 23–24 сентября 1943 года. За это время много народу уничтожили… Как выглядела ликвидация? Как всегда, они нам врали. Зачитали постановление о эвакуации якобы в другой лагерь. Посоветовали взять с собой посуду, так как на новом месте её нам не дадут. Мы не верили. Полиция гетто сгоняла для объявления всех во двор Judenräte (орган еврейского самоуправления, который в принудительном порядке учреждался в каждом гетто для обеспечения исполнения нацистских приказов. — Прим. ред.).
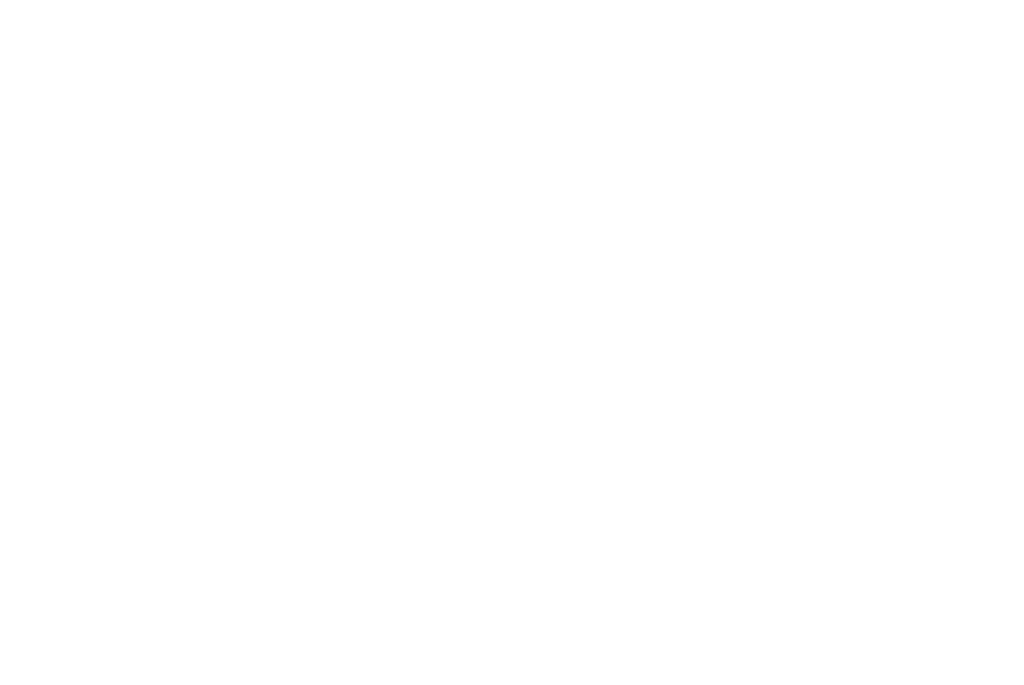
Фото из архива Марии Рольникайте
Уведомление: «По приказу господина гебитскомиссара Вильнюса все евреи обязаны жить в гетто. Несмотря на это отмечены случаи, когда евреи не возвращаются со своих работ, оставаясь у работодателя. Некоторые представители коренного населения доходят до того, что принимают евреев тайно, укрывают их. Поэтому я призываю всех жителей Вильно, всех евреев и полуевреев, крещёных и не крещёных, находящихся до сих пор за пределами гетто, сообщить об этом в полицию. Если после 30 октября 1941 г. еврей будет обнаружен на квартире вне гетто, домохозяин понесёт строгое наказание. Вильнюс, 29 октября 1941. Гебитскомиссар Ф. Мурер».
“
Собираться для выхода из гетто нужно было к 11 часам. Мама, сестрёнка, братик и я пошли с тюками к Judenräte. Нас считали и выпускали через калитку. Прибавили к общему количеству нас четверых и куда-то повели. Провели мимо филармонии. Я вспомнила, что мы в школьном хоре там пели. Пока шли, на тротуарах стояли солдаты с овчарками. Я овчарок до сих пор боюсь (смеётся. — Прим. ред.). В итоге нас погнали на улицу Субачяус. Тогда это был уже почти пригород. Помню, там был высокий забор. Там когда-то был костёл. На той улице из общей массы отобрали мужчин.
Одна женщина попыталась переодеться в мужскую одежду, чтобы вместе с мужем пойти. Её избили и вернули к остальным. Нас загнали во двор этого костёла. И этот двор кончался спуском в низину. Там было какое-то болото. Вот туда всем было велено спуститься. Я подумала: неужели прямо здесь, в городе, будут расстреливать? Когда спустились, всем велели сесть. Там было сыро. Мы думали, что нас расстреляют. Мама есть мама. Чтобы дети не промочили ноги, она решила, что возьмёт на колени Раечку, а я чтобы Рувика взяла. Я не могу забыть именно этот момент. И так мы сидели довольно долго. Рядом были какие-то кусты, сел воробей. Покрутил головой во все стороны и улетел. Как я ему завидовала! Ему-то можно улететь, а мне нельзя.
Одна женщина попыталась переодеться в мужскую одежду, чтобы вместе с мужем пойти. Её избили и вернули к остальным. Нас загнали во двор этого костёла. И этот двор кончался спуском в низину. Там было какое-то болото. Вот туда всем было велено спуститься. Я подумала: неужели прямо здесь, в городе, будут расстреливать? Когда спустились, всем велели сесть. Там было сыро. Мы думали, что нас расстреляют. Мама есть мама. Чтобы дети не промочили ноги, она решила, что возьмёт на колени Раечку, а я чтобы Рувика взяла. Я не могу забыть именно этот момент. И так мы сидели довольно долго. Рядом были какие-то кусты, сел воробей. Покрутил головой во все стороны и улетел. Как я ему завидовала! Ему-то можно улететь, а мне нельзя.
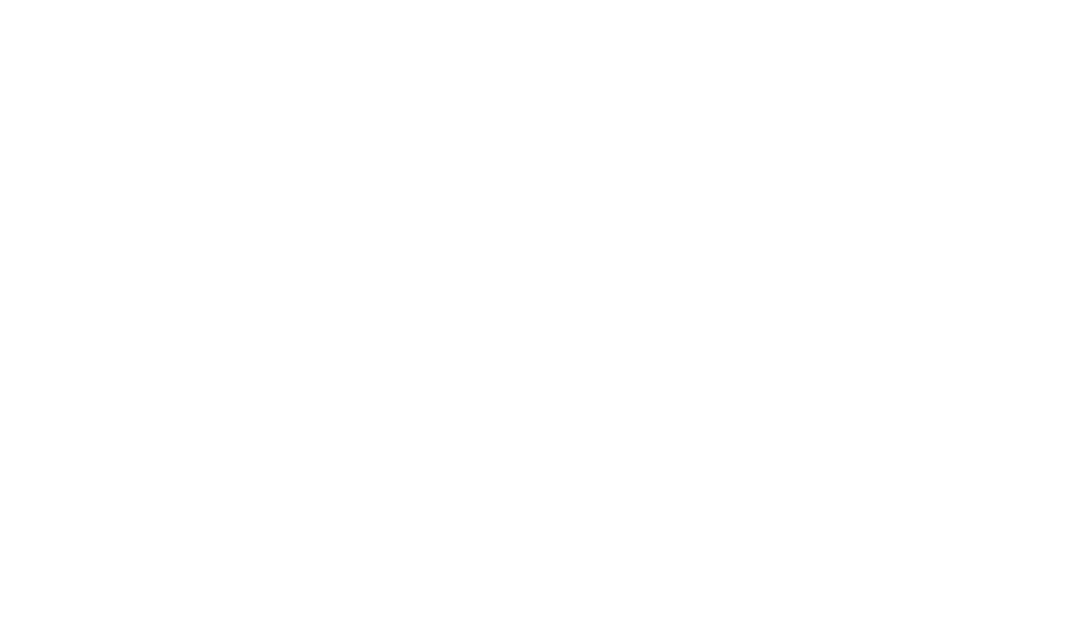
Фото из архива Марии Рольникайте
“
Кругом была охрана. Низина эта кончалась какими-то пригородными улочками, так там охрана с пулемётами сидела на крышах. Стемнело. Наступила ночь. А из гетто всё гонят и гонят людей. Потом привели несколько беглецов, которые попытались уйти через канализацию, но ошиблись. Они вышли из канализации в самом центре города прямо к немцам. Одна девушка и трое мужчин. Фамилии их есть у меня в книге. Так эта девушка плюнула немцу в лицо. Их повесили прямо при нас…
Ночью братик спал. Он только вздрагивал, когда немцы пускали сигнальные ракеты, чтобы нас освещать. А Раечка всё маму мучала: «Мама, а когда расстреливают, это больно? А как нас повезут, на грузовиках, или пешком должны будем идти?» А Рувик спал у меня на руках. До сих пор помню его дыхание…
Утром пригнали ещё людей из гетто. Оказалось, что нас там держали, так как за один день не смогли выгнать всех из гетто. После этого дали приказ подняться наверх. Если в гетто были открыты ворота, и нас туда гнали как скот, то обратно только по одному. Мама сказала, чтобы я шла первой, младшие дети за мной, а она последней. Она хотела идти последней, чтобы нас всех видеть. Я вышла. Солдат схватил меня за пальто и оттолкнул в сторону. Я хотела что-то сказать маме, но увидела, что стоит двойная цепь солдат и улица перегорожена. И мама с детьми, как и другие пожилые и маленькие, оказались от меня отделены. Больных людей там просто клали на мостовую. Солдаты были литовцы. Раньше там была польская власть. Польский был основным языком. И тут я говорю по-литовски: пустите меня, пожалуйста, там моя мама и семья. Солдат меня оттолкнул, а мама ему стала кричать, чтобы он не пускал меня к ним, что я молодая и могу работать. Мама заметила, что с моей стороны уже выстраивали отобранных молодых.
Она успела мне крикнуть: «Живи, детка… Хоть ты одна - живи…».
Больше я не видела ни маму, ни брата с сестрой. Я не знаю, где они погибли… Уже после войны я узнала, что эшелоны, которые отправляли не в концлагеря на работу, а прямо на уничтожение, имели сопроводительные письма с грифом «возвращение нежелательно».
Ночью братик спал. Он только вздрагивал, когда немцы пускали сигнальные ракеты, чтобы нас освещать. А Раечка всё маму мучала: «Мама, а когда расстреливают, это больно? А как нас повезут, на грузовиках, или пешком должны будем идти?» А Рувик спал у меня на руках. До сих пор помню его дыхание…
Утром пригнали ещё людей из гетто. Оказалось, что нас там держали, так как за один день не смогли выгнать всех из гетто. После этого дали приказ подняться наверх. Если в гетто были открыты ворота, и нас туда гнали как скот, то обратно только по одному. Мама сказала, чтобы я шла первой, младшие дети за мной, а она последней. Она хотела идти последней, чтобы нас всех видеть. Я вышла. Солдат схватил меня за пальто и оттолкнул в сторону. Я хотела что-то сказать маме, но увидела, что стоит двойная цепь солдат и улица перегорожена. И мама с детьми, как и другие пожилые и маленькие, оказались от меня отделены. Больных людей там просто клали на мостовую. Солдаты были литовцы. Раньше там была польская власть. Польский был основным языком. И тут я говорю по-литовски: пустите меня, пожалуйста, там моя мама и семья. Солдат меня оттолкнул, а мама ему стала кричать, чтобы он не пускал меня к ним, что я молодая и могу работать. Мама заметила, что с моей стороны уже выстраивали отобранных молодых.
Она успела мне крикнуть: «Живи, детка… Хоть ты одна - живи…».
Больше я не видела ни маму, ни брата с сестрой. Я не знаю, где они погибли… Уже после войны я узнала, что эшелоны, которые отправляли не в концлагеря на работу, а прямо на уничтожение, имели сопроводительные письма с грифом «возвращение нежелательно».
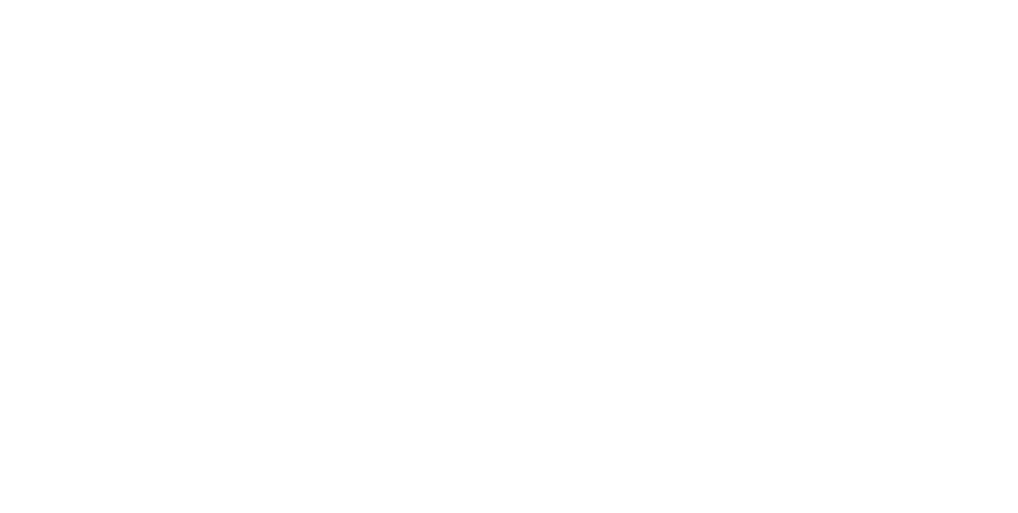
Фото из архива Марии Рольникайте
Мама — Тайба Ароновна Рольник (Рольникене). Родилась в 1897 году в литовском городе Тришкляй. Домохозяйка. Погибла, предположительно в Аушвице, в конце сентября 1943 года. Младшая сестра — Рая Рольник, 1933 года рождения. Погибла вместе с мамой (это она спросила у мамы: «А когда расстреливают — больно?»). Младший брат — Рувим Рольник, 1935 года рождения. Погиб вместе с мамой. (с) источник: Павел Полян, «Заметки по еврейской истории», №5
Первый концлагерь
“
Тех, кто был признан годным к работе, погрузили в вагоны для скота.
Мы ехали там стоя, не зная, куда нас везут. Ночью нас привезли в какой-то лес. Там мы стояли трое суток. А я всё это время вела записи и пыталась спасти свои бумажки. Я записывала всё и в гетто, и позже. Кроме той страшной ночи в канаве. Ещё по совету мамы я учила эти записи наизусть. Ведь наш геттовский палач Мурер (Франц Мурер, адъютант и референт гебитскомиссара Вильнюса, организатор Вильнюсского гетто. — Прим. ред.) любил устраивать налёты на гетто. Внезапные проверки.
Мы ехали там стоя, не зная, куда нас везут. Ночью нас привезли в какой-то лес. Там мы стояли трое суток. А я всё это время вела записи и пыталась спасти свои бумажки. Я записывала всё и в гетто, и позже. Кроме той страшной ночи в канаве. Ещё по совету мамы я учила эти записи наизусть. Ведь наш геттовский палач Мурер (Франц Мурер, адъютант и референт гебитскомиссара Вильнюса, организатор Вильнюсского гетто. — Прим. ред.) любил устраивать налёты на гетто. Внезапные проверки.
(c) wikipedia
(c) wikipedia
(c) wikipedia
“
Оказалось, что лес, в котором мы стояли в вагоне трое суток, это Кайзервальд в Риге (немецкий концентрационный лагерь Riga- Kaiserwald в Латвии в северной части Риги, существовавший в 1943–44 годах. — Прим. ред.). Когда мы увидели бараки, людей в пижамах. Потом поняла, что это не пижамы, а полосатая форма. Нам велели оставить все вещи и загнали в барак. Я по-деревенски так связала в платок свои бумажки и держала их при себе. Рядом со мной все эти трое суток стояла моя тёзка, учительница Маша Механик, она мне потом несколько раз очень помогла.
Мне тогда было уже 16 лет.
Увы, нет фотографий того периода. Но вы можете себе представить моё состояние тогда… На всех обложках моих книг фотография 1940 года, где мне 13 лет и я улыбаюсь.
Этот снимок, сделанный для школьного удостоверения, сохранился случайно, так как папа переслал его своему брату.
На фото: Мария Рольникайте в разные годы
Мне тогда было уже 16 лет.
Увы, нет фотографий того периода. Но вы можете себе представить моё состояние тогда… На всех обложках моих книг фотография 1940 года, где мне 13 лет и я улыбаюсь.
Этот снимок, сделанный для школьного удостоверения, сохранился случайно, так как папа переслал его своему брату.
На фото: Мария Рольникайте в разные годы
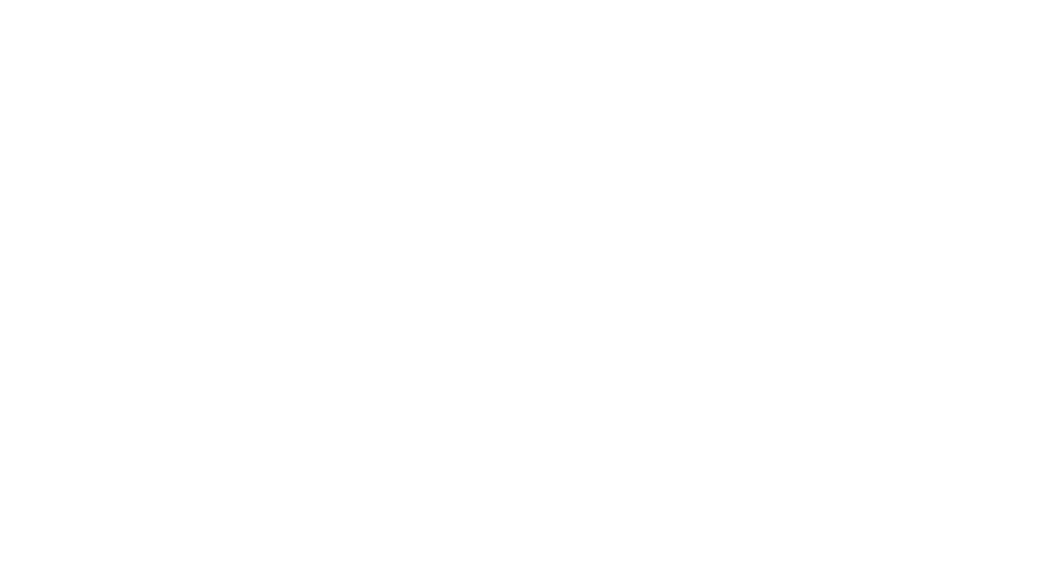
Фото из архива Марии Рольникайте
“
В бараке мы ночевали на полу. Горела лампочка. И я как раз оказалась под этой лампочкой. Не могла заснуть, пока мне одна женщина не подсказала закрыть глаза тряпкой. Я до сих пор, чтобы заснуть, должна закрыть глаза чем-то… Мои записки были со мной. Но немцы ходили мимо строя с коробкой и спрашивали, есть ли ценности, деньги, часы. Но ничего не было.
На следующий день сказали, что нас повезут в баню, чтобы выводить вшей. А мы уже знали, что «баней» называли крематорий, так что страх был большой. Отсчитали 50 человек и увели. Выстроили следующих 50 человек. Но мы не видим, как вышли первые. Когда нас завели в это помещение, то всю одежду нужно было сложить отдельно. Пальто, платье, бельё. Единственное, что разрешили, это оставить обувь. А я говорила своей тезке Маше про дневник свой. И она мне крикнула: «Маша, спасай свои бумажки». Я раскрыла свой узелок и все вокруг стали хватать листки, комкать их и совать в обувь. Я успела сунуть листок только в один ботинок. Во второй не успела. Немка уже выбила всё из рук. Пришлось бросить. Нас заводили в комнату, где стояли два немца в белых халатах. Военные. Первый нас обыскивал, не спрятано ли золото или другие ценности. Открывал нам рты, совал пальцы и проверял. А второй исполнял обязанности парикмахера. Чем красивее и гуще были волосы, тем безжалостнее их кромсали. Они ведь потом делали из наших волос матрасы. Потом нас загнали в так называемую душевую. Три секунды брызнула холодная вода. Всё. Никаких полотенец. Выгоняли через другую дверь. И тогда мы увидели женщин, которых угоняли на помывку раньше. Выдали штаны, рубашку, платье, пальто. Мне досталось чьё-то бальное платье с декольте и красной розой, которую я вышвырнула в сторону. Т. е. это была одежда, которую забрали у предыдущих узников, которая не годилась для отправки на работу в Германию. Длинное платье с декольте. А тут холод собачий. Потом оторвала кусочек снизу, сделала себе шарф.
После этого нас погрузили в машины и отвезли в концлагерь Штразденхоф. Это пригород Риги. Там была фабрика. Четырёхэтажное здание. Немцы там сделали высокий забор, колючую проволоку. На первом этаже жили мужчины из рижского гетто. А мы жили на четвёртом.
Мой номер в Штразденхофе был 5007. Я потом даже песню сочинила на литовском. На русском я плохо говорила.
На следующий день сказали, что нас повезут в баню, чтобы выводить вшей. А мы уже знали, что «баней» называли крематорий, так что страх был большой. Отсчитали 50 человек и увели. Выстроили следующих 50 человек. Но мы не видим, как вышли первые. Когда нас завели в это помещение, то всю одежду нужно было сложить отдельно. Пальто, платье, бельё. Единственное, что разрешили, это оставить обувь. А я говорила своей тезке Маше про дневник свой. И она мне крикнула: «Маша, спасай свои бумажки». Я раскрыла свой узелок и все вокруг стали хватать листки, комкать их и совать в обувь. Я успела сунуть листок только в один ботинок. Во второй не успела. Немка уже выбила всё из рук. Пришлось бросить. Нас заводили в комнату, где стояли два немца в белых халатах. Военные. Первый нас обыскивал, не спрятано ли золото или другие ценности. Открывал нам рты, совал пальцы и проверял. А второй исполнял обязанности парикмахера. Чем красивее и гуще были волосы, тем безжалостнее их кромсали. Они ведь потом делали из наших волос матрасы. Потом нас загнали в так называемую душевую. Три секунды брызнула холодная вода. Всё. Никаких полотенец. Выгоняли через другую дверь. И тогда мы увидели женщин, которых угоняли на помывку раньше. Выдали штаны, рубашку, платье, пальто. Мне досталось чьё-то бальное платье с декольте и красной розой, которую я вышвырнула в сторону. Т. е. это была одежда, которую забрали у предыдущих узников, которая не годилась для отправки на работу в Германию. Длинное платье с декольте. А тут холод собачий. Потом оторвала кусочек снизу, сделала себе шарф.
После этого нас погрузили в машины и отвезли в концлагерь Штразденхоф. Это пригород Риги. Там была фабрика. Четырёхэтажное здание. Немцы там сделали высокий забор, колючую проволоку. На первом этаже жили мужчины из рижского гетто. А мы жили на четвёртом.
Мой номер в Штразденхофе был 5007. Я потом даже песню сочинила на литовском. На русском я плохо говорила.
5007 — теперь моё имя,
Голод — брат,
Холод — сестра,
А я стою, а я стою
Там, у машины…
Голод — брат,
Холод — сестра,
А я стою, а я стою
Там, у машины…
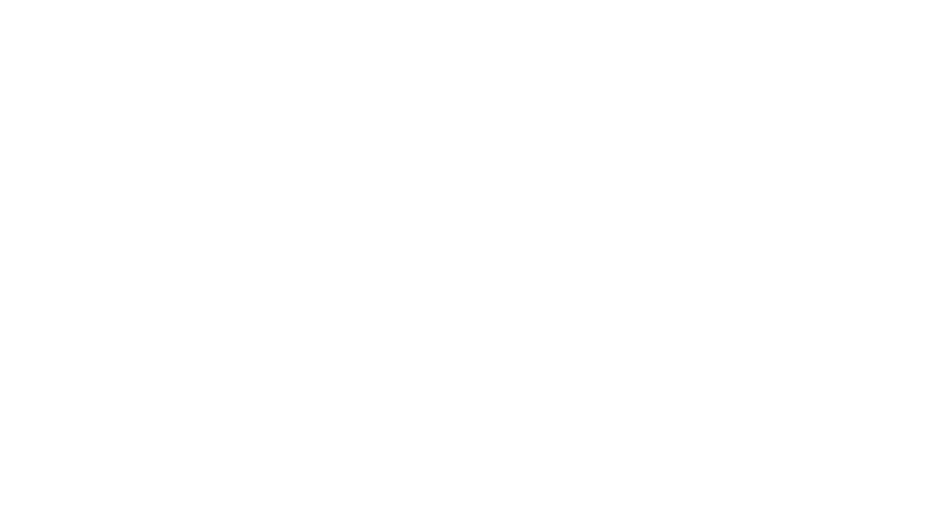
(с) wikipedia
“
Сначала я попала на строительство. Мы там что-то строили. Помню, как мостили дорогу. Меня посадили дробить камни. Можете себе меня представить за этим занятием? Как я после этого осталась с обоими глазами, я вообще не понимаю. Всё отскакивало мне в физиономию. Когда становилось совсем уже невмоготу, дождь, холод, я вспоминала папин кабинет, нашу квартиру в Вильнюсе… Потом мы подавали вагонетки с камнями. Я однажды не заметила, что вагонетка летела с горы на нас… При этом они не разрешали грузить камни вдвоём. Только по одному. Издевались.
Мы там довольно долго работали. Когда работа закончилась, меня с целой группой других женщин перевели на ткацкие фабрики. Наверное, они и сейчас есть. Rīgas Audums — это шёлковое производство, и попроще — Juglas Manufaktūra. Мы там ткали белую ткань до августа 1943 года. Периодически слышали стрельбу и взрывы далёкие. Я работала на стройке, но писать-то надо. Бумаги нет. Маша Механик мне посоветовала добыть карандаш: «Давай не скажем зачем, кому, но нужен карандаш». Т. е. если кто-то найдёт что-то пишущее, чтобы нам подбросили. И нам его подбросили. А бумажные мешки из-под цемента валялись вокруг. Эти мешки были единственными нашими чулками. Обматывали ими ноги. Кроме того, для меня это была просто люксовая бумага. Потом, на фабрике уже, я смогла добывать обёрточную бумагу, и я переписывала свои записки. А Маша Механик меня поддерживала и спрашивала, как я описала ту или иную акцию в гетто. Благодаря тому, что я знала ранние свои записи наизусть, я смогла восстановить потерянные фрагменты.
У нас там были два Ханса. Ханс большой и Ханс маленький. Они не были эсэсовцами. Они тоже были узниками, но уголовниками. Они над нами издевались. Ханс большой особенно любил наказание — прыгать. Надо было встать по одному в ряд и прыгать часами. А он бегал по большому промежутку между рядами и смотрел, чтобы мы не просто поднимали плечи, а на самом деле прыгали. После первого раза я несколько дней заикалась… Думала, что так заикой и останусь, но потом прошло. Дважды в день были проверки — апель. На апель мы стояли в ряд по пять человек. И нас быстро пересчитывали. Не убежал ли кто, хотя убежать было невозможно. Правда, рабочие фабрики всё равно спасли несколько человек. Сунули их в грузовик под готовую продукцию.
Уже в августе нас всех собрали. Маленький Ханс встал во дворе на стол с нашей картотекой и объявил, что всех нетрудоспособных, кто старше 30 лет и моложе 18 лет, оставляют здесь, а остальных эвакуируют. Я была моложе, не должна была уехать.
Когда Ханс, читая карточки, начинал говорить «пять тысяч…», я уже была готова выйти. А мы понимали, что ждёт тех, кто не подлежит эвакуации. В итоге почему-то остались три человека. Двойняшки Фейгенберг — 17-летние внучки известного в Вильнюсе врача, и я. И мы договорились, что если на самом деле нас повезут в другой лагерь, мы запишемся старше. И у меня во всех справках из Штуттгофа я 1925 года рождения, хотя на самом деле 1927 года. Сначала нас погрузили в машины. Куда везли — непонятно. Окон не было. Привезли в Рижский порт. Там стоял огромный теплоход. Мне показалось, что они вывозили какое-то оборудование. Что-то такое зачехлённое стояло там. Нас загнали в самый низ корабля. Было темно и душно. Я почему-то решила, что мы плывём мимо Клайпеды, где я родилась. Потом нас привезли вообще непонятно куда. Это не был порт. Просто росла трава на берегу, бегали мальчишки. Мы спросили, где мы. И нам сказали — Гдыня, Польша. Кого-то перегрузили на баржи. Но мне всегда везло. Я попала в число тех, кого гнали дальше пешком. Пока мы шли, мы видели указатель Штуттгоф. И там так всё красиво было… Такие дома ухоженные! Такие садики! Такие цветы там цветут! А мы в Штуттгоф…
Я там потом побывала в 1967 году. Зашла в крематорий. Вы скажете, ненормальная? Пожалуй, да.
Мы там довольно долго работали. Когда работа закончилась, меня с целой группой других женщин перевели на ткацкие фабрики. Наверное, они и сейчас есть. Rīgas Audums — это шёлковое производство, и попроще — Juglas Manufaktūra. Мы там ткали белую ткань до августа 1943 года. Периодически слышали стрельбу и взрывы далёкие. Я работала на стройке, но писать-то надо. Бумаги нет. Маша Механик мне посоветовала добыть карандаш: «Давай не скажем зачем, кому, но нужен карандаш». Т. е. если кто-то найдёт что-то пишущее, чтобы нам подбросили. И нам его подбросили. А бумажные мешки из-под цемента валялись вокруг. Эти мешки были единственными нашими чулками. Обматывали ими ноги. Кроме того, для меня это была просто люксовая бумага. Потом, на фабрике уже, я смогла добывать обёрточную бумагу, и я переписывала свои записки. А Маша Механик меня поддерживала и спрашивала, как я описала ту или иную акцию в гетто. Благодаря тому, что я знала ранние свои записи наизусть, я смогла восстановить потерянные фрагменты.
У нас там были два Ханса. Ханс большой и Ханс маленький. Они не были эсэсовцами. Они тоже были узниками, но уголовниками. Они над нами издевались. Ханс большой особенно любил наказание — прыгать. Надо было встать по одному в ряд и прыгать часами. А он бегал по большому промежутку между рядами и смотрел, чтобы мы не просто поднимали плечи, а на самом деле прыгали. После первого раза я несколько дней заикалась… Думала, что так заикой и останусь, но потом прошло. Дважды в день были проверки — апель. На апель мы стояли в ряд по пять человек. И нас быстро пересчитывали. Не убежал ли кто, хотя убежать было невозможно. Правда, рабочие фабрики всё равно спасли несколько человек. Сунули их в грузовик под готовую продукцию.
Уже в августе нас всех собрали. Маленький Ханс встал во дворе на стол с нашей картотекой и объявил, что всех нетрудоспособных, кто старше 30 лет и моложе 18 лет, оставляют здесь, а остальных эвакуируют. Я была моложе, не должна была уехать.
Когда Ханс, читая карточки, начинал говорить «пять тысяч…», я уже была готова выйти. А мы понимали, что ждёт тех, кто не подлежит эвакуации. В итоге почему-то остались три человека. Двойняшки Фейгенберг — 17-летние внучки известного в Вильнюсе врача, и я. И мы договорились, что если на самом деле нас повезут в другой лагерь, мы запишемся старше. И у меня во всех справках из Штуттгофа я 1925 года рождения, хотя на самом деле 1927 года. Сначала нас погрузили в машины. Куда везли — непонятно. Окон не было. Привезли в Рижский порт. Там стоял огромный теплоход. Мне показалось, что они вывозили какое-то оборудование. Что-то такое зачехлённое стояло там. Нас загнали в самый низ корабля. Было темно и душно. Я почему-то решила, что мы плывём мимо Клайпеды, где я родилась. Потом нас привезли вообще непонятно куда. Это не был порт. Просто росла трава на берегу, бегали мальчишки. Мы спросили, где мы. И нам сказали — Гдыня, Польша. Кого-то перегрузили на баржи. Но мне всегда везло. Я попала в число тех, кого гнали дальше пешком. Пока мы шли, мы видели указатель Штуттгоф. И там так всё красиво было… Такие дома ухоженные! Такие садики! Такие цветы там цветут! А мы в Штуттгоф…
Я там потом побывала в 1967 году. Зашла в крематорий. Вы скажете, ненормальная? Пожалуй, да.
Штуттгоф — концентрационный лагерь, созданный в 1939 году на территории оккупированной Польши. За годы войны в лагерь попали около 110 тысяч заключённых, из которых около 65 тысяч погибли. Лагерь печально известен медицинскими экспериментами и производством мыла из человеческих тел.
Второй концлагерь
“
В концлагере Штуттгоф мы оказались осенью 1944 года. Там было страшно. Во-первых, там были крематорий и газовая камера. Постоянно из трубы крематория шёл дым. Мы понимали, что выйдем мы оттуда вот этим вот дымком. В Штразденхофе тоже увозили людей, кто был нетрудоспособен. И мы понимали, куда. В первом лагере однажды немец увидел, что кто-то из прохожих дал нашим по кусочку хлеба. Мужской группе. Те половину съели, половину оставили то ли на завтра, то ли друзьям. Доложили. Это было ещё зимой. Унтершарфюрер нашего лагеря велел им раздеться до белья. Каждые 5 минут из кухни выносили по ведру горячей воды. Её выливали им на головы. А мы должны были на это смотреть... Отворачиваться было нельзя. Отвернёшься — получишь палкой по голове. Палки у них были резиновые, но внутри было железо. «Бункер-палка» называлась.
В Штуттгофе были селекции. Мы должны были проходить абсолютно голыми. Стояла охрана. Стоял наш унтершарфюрер. Он осматривал нас. «Покажи мышцы…» А у меня уже были нарывы… Но я гордо подняла голову. Кого-то тут же уводили солдаты... Кого они признавали слишком уж дохлыми. Когда человек уже был похож на скелет. Первое время мы там ничего не делали. Просто были регулярные апели. Потом сообщили, что будут брать на работу. Нам сказали, что приедут работодатели.
И вот тогда я поняла, что такое рынок рабов.
В Штуттгофе были селекции. Мы должны были проходить абсолютно голыми. Стояла охрана. Стоял наш унтершарфюрер. Он осматривал нас. «Покажи мышцы…» А у меня уже были нарывы… Но я гордо подняла голову. Кого-то тут же уводили солдаты... Кого они признавали слишком уж дохлыми. Когда человек уже был похож на скелет. Первое время мы там ничего не делали. Просто были регулярные апели. Потом сообщили, что будут брать на работу. Нам сказали, что приедут работодатели.
И вот тогда я поняла, что такое рынок рабов.
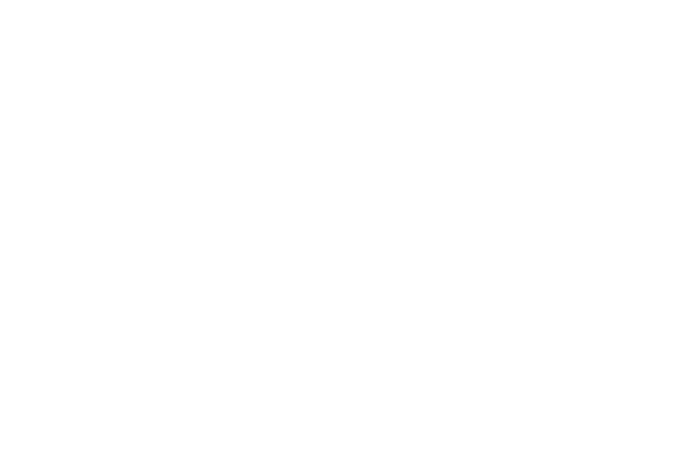
Концентрационный лагерь Штутгоф, (с) wikipedia,
“
Рынок рабов. Там были военные, были гражданские, которые обходили нас и просили показывать им мышцы. А мимо меня, дохлятины, все проходили, не обращая внимания. Тогда я стала говорить по-немецки: Ich bin stark («Я сильная». — Прим. ред.). Всё равно проходили мимо. Я стала говорить: Ich bin stark! Ich bin arbeiten («Я могу работать». — Прим. ред.). И какой-то подслеповатый старик переспросил: Was-was? Оказалось, что он эсэсовец, но пожилой. В итоге он отобрал вместе со мной четверых. Нас вывели из лагеря на станцию. В поезде мы сидели отдельно от остальных. Доехали до маленькой станции. Там наш хозяин расписался, что он получил четырех «хефтлингов» (заключённых. — Прим. ред.), с такими-то номерами. Военные уехали, а наш хозяин нас привязал к бричке с лошадью. И погнал. Мы должны были бежать за его телегой. Он был немец. Ему нужна была рабочая сила. У него в поместье были другие пленные. Был Иван. То ли русский, то ли украинец. Он был с семьёй. С двумя своими детьми. Хозяева всё ворчали, что им нужно кормить ещё и детей.
Нам был отведён свинарник. Дали несколько дырявых досок и сено. Ни чем накрыться, ни что постелить не дали. Хозяин объявил, что питание будет таким, какое нам положено было в лагере. Полбуханки хлеба на неделю. Кусочек маргарина. Всё. Но если останется от обеда остальных рабочих и хозяев, то на кухню могла войти только одна из нас и только босиком. Мы там всё равно немного подкармливались. Когда кормили свиней, мы пару картошек у них одалживали. Потом когда убирали зелёный горошек и вылущивали его… Хозяин был старый. Лет 60 ему было. У него было две сестры. Старые девы. Вот они были злые… В первый же день меня поставили доить коров. У папы-адвоката мне этого делать не приходилось (смеется. — Прим. ред.). Я начала доить, а молоко потекло по моим рукам. А одна из этих сестёр хозяина стояла рядом. Она мне как даст ногой по спине. И почему-то сразу у меня стало получаться.
Били нас регулярно. За всё, что угодно. Там было очень красиво сделано вокруг садика. Красиво сделаны кусты. Вылезла трава, мы должны аккуратно срезать. Пока стрижёшь, вроде бы всё ровно. А потом она вдруг вылезает криво. И, конечно, получаешь за это сразу… Там ещё была одна женщина из Риги, которая всё время плакала. Они с мужем и ребёнком ещё в рижском гетто решили покончить с собой. Где-то добыли яд. Вроде бы муж у неё был медиком. Но они в итоге оба проснулись, а ребёнок нет… Сколько мы её ни утешали, что это не она убийца, она всё время плакала…
Мы там проработали четыре месяца. Собрали урожай. Всё сделали, и нас вернули в Штуттгоф. Помню, что по дороге назад было небольшое озеро. Была уже осень. Опавшие листья плавали там. Мне тогда показалось, что даже вода грустит от того, что нас уводят…
Убежать я не думала. Я понимала, что я получу пулю, и всё. Да и потом, куда бежать? Кто меня примет? Когда хозяин не видел, его соседи нам жаловались, что он разрешал собирать им упавшие зёрна во время уборки урожая. Наш хозяин был зажиточный помещик. У этих соседей была семейная трагедия. Один сын был коммунист, а другой — надзирателем в лагере.
Когда мы вернулись в лагерь, он уже был закрыт. Не знаю, что случилось, но в газовой камере был пожар. А живыми в печь не засунешь… Потом там началась какая-то эпидемия непонятная. Тогда если ты находил в похлёбке кусочек гнилой капусты, считалось, что это густой суп. Вокруг была жуткая грязь. Это был уже ноябрь. Мы продолжали спать на полу. Поворачивались по команде. Многие женщины очень опустились. Воды вообще не было. Вот тогда было очень страшно. Я тоже болела. Я не помню, но женщины говорили потом, что я ругала немцев и пела слабым голосом. Каким образом я выкарабкалась из болезни, я не понимаю… В бараке люди умирали по 40–60 человек за ночь…
После нескольких дней без сознания, можете себе представить, в какой я была чистоте.
Я помню, выпал снег, ползу на четвереньках помыться снегом… Какие-то зелёные круги были перед глазами… При этом нам надо было выносить мёртвых. Умершие лежали в проходе…
Было очень холодно. Я сунула одной женщине руку под мышку. Утром проснулась, а она холодная… Надзирательница решила, что те, кто уже переболел, будут похоронной командой. Мы вчетвером не могли поднять один труп… Надзирательница увидела, что я не справляюсь. Заменила меня, а мне дала самые обыкновенные плоскогубцы, чтобы я выдирала золотые зубы, коронки у мёртвых. В проходе лежала одна умершая. У нее был открыт рот, и было видно, что у неё есть золото во рту. И, как нарочно, она лежит под лампочкой! Как будто издевается надо мной! Конечно, я не стала ничего ей вырывать. Я решила зажать ей рот плоскогубцами. Я не понимала, что с мёртвым человеком этого не сделать. Я отпускала, и рот открывался опять… В итоге немка меня застала за этим занятием. Бункер-палка весила полтора килограмма. И этой самой палкой она меня так избила по голове, что я три ночи спала сидя. Не могла голову положить… Я не знаю, как у меня там, в голове вообще что-то осталось…
Нам был отведён свинарник. Дали несколько дырявых досок и сено. Ни чем накрыться, ни что постелить не дали. Хозяин объявил, что питание будет таким, какое нам положено было в лагере. Полбуханки хлеба на неделю. Кусочек маргарина. Всё. Но если останется от обеда остальных рабочих и хозяев, то на кухню могла войти только одна из нас и только босиком. Мы там всё равно немного подкармливались. Когда кормили свиней, мы пару картошек у них одалживали. Потом когда убирали зелёный горошек и вылущивали его… Хозяин был старый. Лет 60 ему было. У него было две сестры. Старые девы. Вот они были злые… В первый же день меня поставили доить коров. У папы-адвоката мне этого делать не приходилось (смеется. — Прим. ред.). Я начала доить, а молоко потекло по моим рукам. А одна из этих сестёр хозяина стояла рядом. Она мне как даст ногой по спине. И почему-то сразу у меня стало получаться.
Били нас регулярно. За всё, что угодно. Там было очень красиво сделано вокруг садика. Красиво сделаны кусты. Вылезла трава, мы должны аккуратно срезать. Пока стрижёшь, вроде бы всё ровно. А потом она вдруг вылезает криво. И, конечно, получаешь за это сразу… Там ещё была одна женщина из Риги, которая всё время плакала. Они с мужем и ребёнком ещё в рижском гетто решили покончить с собой. Где-то добыли яд. Вроде бы муж у неё был медиком. Но они в итоге оба проснулись, а ребёнок нет… Сколько мы её ни утешали, что это не она убийца, она всё время плакала…
Мы там проработали четыре месяца. Собрали урожай. Всё сделали, и нас вернули в Штуттгоф. Помню, что по дороге назад было небольшое озеро. Была уже осень. Опавшие листья плавали там. Мне тогда показалось, что даже вода грустит от того, что нас уводят…
Убежать я не думала. Я понимала, что я получу пулю, и всё. Да и потом, куда бежать? Кто меня примет? Когда хозяин не видел, его соседи нам жаловались, что он разрешал собирать им упавшие зёрна во время уборки урожая. Наш хозяин был зажиточный помещик. У этих соседей была семейная трагедия. Один сын был коммунист, а другой — надзирателем в лагере.
Когда мы вернулись в лагерь, он уже был закрыт. Не знаю, что случилось, но в газовой камере был пожар. А живыми в печь не засунешь… Потом там началась какая-то эпидемия непонятная. Тогда если ты находил в похлёбке кусочек гнилой капусты, считалось, что это густой суп. Вокруг была жуткая грязь. Это был уже ноябрь. Мы продолжали спать на полу. Поворачивались по команде. Многие женщины очень опустились. Воды вообще не было. Вот тогда было очень страшно. Я тоже болела. Я не помню, но женщины говорили потом, что я ругала немцев и пела слабым голосом. Каким образом я выкарабкалась из болезни, я не понимаю… В бараке люди умирали по 40–60 человек за ночь…
После нескольких дней без сознания, можете себе представить, в какой я была чистоте.
Я помню, выпал снег, ползу на четвереньках помыться снегом… Какие-то зелёные круги были перед глазами… При этом нам надо было выносить мёртвых. Умершие лежали в проходе…
Было очень холодно. Я сунула одной женщине руку под мышку. Утром проснулась, а она холодная… Надзирательница решила, что те, кто уже переболел, будут похоронной командой. Мы вчетвером не могли поднять один труп… Надзирательница увидела, что я не справляюсь. Заменила меня, а мне дала самые обыкновенные плоскогубцы, чтобы я выдирала золотые зубы, коронки у мёртвых. В проходе лежала одна умершая. У нее был открыт рот, и было видно, что у неё есть золото во рту. И, как нарочно, она лежит под лампочкой! Как будто издевается надо мной! Конечно, я не стала ничего ей вырывать. Я решила зажать ей рот плоскогубцами. Я не понимала, что с мёртвым человеком этого не сделать. Я отпускала, и рот открывался опять… В итоге немка меня застала за этим занятием. Бункер-палка весила полтора килограмма. И этой самой палкой она меня так избила по голове, что я три ночи спала сидя. Не могла голову положить… Я не знаю, как у меня там, в голове вообще что-то осталось…
Воскресенье — выходной
“
Я как-то выступала на презентации очень хорошей книги Яна Карского (участник польского движения Сопротивления, который одним из первых сообщил представителям иностранных государств об уничтожении евреев в Польше, «Праведник мира». — Прим. ред.)и рассказывала, что воскресенье в концлагере мне казалось бесконечным, я знала, что в воскресенье селекции не будет, и я буду жить до самого вечера, а может быть, даже до утра понедельника… Охранникам в воскресенье было не до нас. Хотя женщины-надзирательницы иногда забавлялись. Вытаскивали кого-то из толпы и толкали на провода ограждения. Там ведь пускали ток высокого напряжения. Напряжение регулировал охранник наверху. И они спорили между собой, с какого броска на проволоку человек повиснет на ней. Ведь если ток отключить, человека отбрасывает. Это было у них такое развлечение… В нашем лагере делали медицинские эксперименты над узниками. Слава богу, я туда не попала… Когда я первый раз была в ГДР после выхода своей книги, нам показывали, что там делали. Страшно…
В концлагере люди продолжали просто умирать и от холода, и от болезней.
Их уносили в крематорий. Когда уже осталось мало народа, не было регулярных проверок, нам объявили, что лагерь эвакуируется в другой лагерь. Кто был в состоянии идти, должны были утром уходить. Я еле волочила ноги, но я решила, что пойду. Тем более всех предупредили, что кто не сможет идти, того пристрелят на месте. Они уже не стеснялись говорить прямо. Сказали, что всё сожгут. Кто останется, будет гореть живым. Я пошла. Лагерная обувь на ногах. Это такая деревянная подошва, к которой прилипает снег. Тащились мы еле-еле. Куда идём, когда придём — ничего не известно. За нами шла телега с охранниками и собаками. Нам иногда разрешали сесть прямо в снег минут на 15. То есть это так давали отдыхать. Постоянно предупреждали, что кто упадёт или не сможет идти, того расстреляют на месте. За умершими в дороге потом отправляли жителей в следующей деревне, чтобы не было эпидемии.
Немцы уже убегали от русских. Бросали там довольно богатые имения. Мы видели какие-то конюшни большие. В некоторые нас загоняли на ночлег. У меня опухли ноги. Было страшно снимать эту деревянную обувь, так как обратно уже не наденешь. Многие погибли именно из-за этого. Не могли потом надеть обратно. Босиком далеко не уйдёшь. Падали. Расстреливали.
В концлагере люди продолжали просто умирать и от холода, и от болезней.
Их уносили в крематорий. Когда уже осталось мало народа, не было регулярных проверок, нам объявили, что лагерь эвакуируется в другой лагерь. Кто был в состоянии идти, должны были утром уходить. Я еле волочила ноги, но я решила, что пойду. Тем более всех предупредили, что кто не сможет идти, того пристрелят на месте. Они уже не стеснялись говорить прямо. Сказали, что всё сожгут. Кто останется, будет гореть живым. Я пошла. Лагерная обувь на ногах. Это такая деревянная подошва, к которой прилипает снег. Тащились мы еле-еле. Куда идём, когда придём — ничего не известно. За нами шла телега с охранниками и собаками. Нам иногда разрешали сесть прямо в снег минут на 15. То есть это так давали отдыхать. Постоянно предупреждали, что кто упадёт или не сможет идти, того расстреляют на месте. За умершими в дороге потом отправляли жителей в следующей деревне, чтобы не было эпидемии.
Немцы уже убегали от русских. Бросали там довольно богатые имения. Мы видели какие-то конюшни большие. В некоторые нас загоняли на ночлег. У меня опухли ноги. Было страшно снимать эту деревянную обувь, так как обратно уже не наденешь. Многие погибли именно из-за этого. Не могли потом надеть обратно. Босиком далеко не уйдёшь. Падали. Расстреливали.
Освобождение
“
Обычно нас закрывали на ночь. Но в последнюю ночь, вечером, когда было уже темно, вдруг дали приказ идти. Это мы уже после освобождения узнали, что их спугнули «Катюши». Залпы, эхо в лесу. А у наших надзирателей уже не было связи со своим начальством. Я уже совсем не могла идти… Меня вели под руки. Женщинам было жалко меня молодую. Да ещё все знали, что я постоянно что-то писала, что это всё пропадёт. Я в конце концов всё-таки упала. Они меня поднимают, а я им говорю: «Оставьте меня, я всё равно не смогу идти, идите сами».
Никакого страха перед смертью уже не было. Это было избавление. Зимний лес. Стоят заснеженные деревья. Ни ветерка. Такая красота!
Думаю: «Вот как хорошо, я сейчас упаду, меня пристрелят, и всё». Лежу в кювете. Вдруг почувствовала боль в боку. Думаю, что в меня уже выстрелили. Посмотрела, но крови нет. Тогда до меня дошло, что охранник просто меня сапогом в кювет скинул. Пнул. А я продолжаю любоваться красотой! Лежу и думаю: «Как хорошо, сейчас засну, замёрзну во сне, и всё». Это было 10 марта. Мы шли уже три недели. И вдруг кто-то с дороги мне говорит: «Жива?». Я говорю: «Жива». «Вылезай», — снова мне говорят. «Не могу», — отвечаю. «Вылезай, тебе говорят!» — опять мне. Я говорю: «Оставьте меня в покое, я хочу заснуть, и всё…». Но эта взрослая женщина где-то взяла длинную палку и тыркала меня. Сказала схватиться. В итоге она меня всё-таки вытащила из канавы. Женщина оказалась учительницей из Венгрии. У неё погибла вся семья, но она хотела жить. Она там оказалась наедине со мной, потому что тоже упала во время похода. Упала нарочно. Она услышала разговор охранников, что стрелять они уже не будут, чтобы не выдать своё местонахождение.
Мы с ней пошли в ту же сторону, куда пошёл лагерь. Вдруг из-за деревьев выскакивает какой-то немец и говорит нам: «Вы русские шпионки». Я ему отвечаю, что мы узницы. Вот мой номер — 60621. Он продолжает повторять, что мы русские шпионки, которые идут навстречу русским. Потом появился ещё один немец на санях с лошадью, который сказал первому, что здесь действительно провели концлагерь. Они нас посадили в эти сани. Там была немецкая овчарка. Мы проехали какую-то спящую деревню. За ней оказалась огромная конюшня. Там уже были наши узницы. Мы увидели, что туда уже привезли бензин… Я хотела упрекнуть эту венгерку, за то, что она мне не дала спокойно умереть в красивом лесу, но не стала. Мы с ней договорились, что никому не скажем про бензин, чтобы не устраивать панику раньше времени. Мы пристроились рядом с ней около стены. Всё время принюхивались, не пахнет ли бензином.
Потом поняли — не слышно немцев. Нет немецкой речи. И вдруг стук в ворота: «Эй, жидовечке, выхочьте! Червона армия пшишла!». Представьте полный сарай баб. И все решили, что никуда не пойдут, потому что это провокация! Мы побежим, а в нас будут стрелять. Сейчас я думаю каждый раз, ну что за идиотская логика! Это ж было бы лучше, чем гореть живыми! Удивительное было единство тогда. Этот поляк сказал тогда: «Чёрт с вами!». Потом оказалось, что это был трудовой лагерь, где работали поляки. Они видели, что нас повезли сюда. Они знали, что здесь есть бензин, и поняли, что мы будем переживать. Почему эти поляки остались без охраны, непонятно. Мы не обсуждали тогда этот вопрос. И вот эти поляки, увидев первого русского танкиста, сказали ему, что в той конюшне сидят бабы и не верят, что русские уже пришли. А что русскому человеку надо, кроме лозунга? Они прямо через поле на танках к нам подъехали, разрубили перекладину, которая держала ворота, крикнули «Да здравствует свобода!», мы ведь не можем иначе (смеется. — Прим. ред.). Когда ворота открылись, все женщины бросились бежать с поднятыми руками. А я подняться не могу. Боялась, что меня затопчут. Почему они руки повскидывали, я до сих пор не понимаю. Между теми, кто не смог сам ходить, ходили солдаты. Подошли двое ко мне: «Жива? Встань». «Жива. Не могу», — говорю. Они меня посадили на сплетённые руки и вынесли из этой конюшни.
Вот тогда я первый раз заплакала после того, как нас разлучили с мамой. Мысль одна — «теперь меня не убьют».
И солдат, который был повыше, говорит мне: «Не бойся, сестрица, теперь мы тебя в обиду не дадим». Он это говорит, а я реву… И я так жалею, что я не спросила хотя бы их имён! Очень сожалею. Когда меня несли советские солдаты, я видела, что наши бабы поймали нашего унтершарфюрера. Он был уже в гражданской одежде, на велосипеде. И наши бабы хотели с ним что-то сделать. Разоружить и т. д. А солдаты сказали: «Предоставьте это нам». Я попросила остановиться и посмотреть, но солдаты, которые меня несли, сказали, что мне на это смотреть не надо.
Принесли меня к какой-то местной немке. Хотя и деревенский дом, но дай бог такие всем! Я переводила, а они ей велели меня помыть и накормить. При этом сказали мне, чтобы я заставляла ту немку первой пробовать еду, которую она мне даёт. Я постеснялась. Солдаты ушли. Немка согрела воду. Я стеснялась, чтобы она меня мыла… Единственное, что я решила снять обувь. Ноги были раздутые. Бордового цвета. Что талия, что ноги были абсолютно одинаковые.
Немка начала мне морочить голову, как ей было плохо при Гитлере. Спросила: Was möchtest du essen? Bratkartoffeln? («Что вы хотите съесть? Жареный картофель?» — Прим. ред.). А я когда маленькая была, когда капризничала, именно жареную картошку просила у мамы. Помню, что когда немка чистила картошку, она шелуху срезала с большим слоем самой картошки. Потом я дорого за эту жареную картошку расплатилась…
Мы там долго болели, были неприятности от того, что переедали…
В тот же дом поселили и других женщин. Вечером к нам в дом с той немкой пришли солдаты. Первая песня, которую я услышала, была: «Эх, махорочка, махорка, подружились мы с тобой. Вдаль дозоры смотрят зорко, охраняя край родной…». И потом вторая: «На позицию девушка провожала бойца…». Чтобы посидеть с остальными, я сползла с кровати… И они пили одеколон, пролили его, пели песни… Эту ночь я не забуду. Это 10 марта 1945 года.
Одна из женщин умерла в ту же ночь от переедания. Потом пришёл советский врач. Прослушал меня всю, строго-настрого сказал ничего не есть. А там у хозяйки были маринованные курочки! Мы забыли, что это такое! Врач прислал солдата с рюкзаком сухарей. Разделили эти сухари по 8 штук каждой. Было велено есть не больше двух в день. В первую же ночь сгрызли все 8! Началась эпидемия. У всех расстройство желудка.
Ходили наши солдаты. И тех, кто был покрепче, они были не прочь, так сказать, снасиловать. Но об этом не будем. Хотя я помню, что солдаты даже с претензией были. Мол, «мы каждый час можем погибнуть, а наши женщины там пашут, а вы тут не хотите…». Тот же врач выдал нашей группе справку, что мы прошли карантин.
Никакого страха перед смертью уже не было. Это было избавление. Зимний лес. Стоят заснеженные деревья. Ни ветерка. Такая красота!
Думаю: «Вот как хорошо, я сейчас упаду, меня пристрелят, и всё». Лежу в кювете. Вдруг почувствовала боль в боку. Думаю, что в меня уже выстрелили. Посмотрела, но крови нет. Тогда до меня дошло, что охранник просто меня сапогом в кювет скинул. Пнул. А я продолжаю любоваться красотой! Лежу и думаю: «Как хорошо, сейчас засну, замёрзну во сне, и всё». Это было 10 марта. Мы шли уже три недели. И вдруг кто-то с дороги мне говорит: «Жива?». Я говорю: «Жива». «Вылезай», — снова мне говорят. «Не могу», — отвечаю. «Вылезай, тебе говорят!» — опять мне. Я говорю: «Оставьте меня в покое, я хочу заснуть, и всё…». Но эта взрослая женщина где-то взяла длинную палку и тыркала меня. Сказала схватиться. В итоге она меня всё-таки вытащила из канавы. Женщина оказалась учительницей из Венгрии. У неё погибла вся семья, но она хотела жить. Она там оказалась наедине со мной, потому что тоже упала во время похода. Упала нарочно. Она услышала разговор охранников, что стрелять они уже не будут, чтобы не выдать своё местонахождение.
Мы с ней пошли в ту же сторону, куда пошёл лагерь. Вдруг из-за деревьев выскакивает какой-то немец и говорит нам: «Вы русские шпионки». Я ему отвечаю, что мы узницы. Вот мой номер — 60621. Он продолжает повторять, что мы русские шпионки, которые идут навстречу русским. Потом появился ещё один немец на санях с лошадью, который сказал первому, что здесь действительно провели концлагерь. Они нас посадили в эти сани. Там была немецкая овчарка. Мы проехали какую-то спящую деревню. За ней оказалась огромная конюшня. Там уже были наши узницы. Мы увидели, что туда уже привезли бензин… Я хотела упрекнуть эту венгерку, за то, что она мне не дала спокойно умереть в красивом лесу, но не стала. Мы с ней договорились, что никому не скажем про бензин, чтобы не устраивать панику раньше времени. Мы пристроились рядом с ней около стены. Всё время принюхивались, не пахнет ли бензином.
Потом поняли — не слышно немцев. Нет немецкой речи. И вдруг стук в ворота: «Эй, жидовечке, выхочьте! Червона армия пшишла!». Представьте полный сарай баб. И все решили, что никуда не пойдут, потому что это провокация! Мы побежим, а в нас будут стрелять. Сейчас я думаю каждый раз, ну что за идиотская логика! Это ж было бы лучше, чем гореть живыми! Удивительное было единство тогда. Этот поляк сказал тогда: «Чёрт с вами!». Потом оказалось, что это был трудовой лагерь, где работали поляки. Они видели, что нас повезли сюда. Они знали, что здесь есть бензин, и поняли, что мы будем переживать. Почему эти поляки остались без охраны, непонятно. Мы не обсуждали тогда этот вопрос. И вот эти поляки, увидев первого русского танкиста, сказали ему, что в той конюшне сидят бабы и не верят, что русские уже пришли. А что русскому человеку надо, кроме лозунга? Они прямо через поле на танках к нам подъехали, разрубили перекладину, которая держала ворота, крикнули «Да здравствует свобода!», мы ведь не можем иначе (смеется. — Прим. ред.). Когда ворота открылись, все женщины бросились бежать с поднятыми руками. А я подняться не могу. Боялась, что меня затопчут. Почему они руки повскидывали, я до сих пор не понимаю. Между теми, кто не смог сам ходить, ходили солдаты. Подошли двое ко мне: «Жива? Встань». «Жива. Не могу», — говорю. Они меня посадили на сплетённые руки и вынесли из этой конюшни.
Вот тогда я первый раз заплакала после того, как нас разлучили с мамой. Мысль одна — «теперь меня не убьют».
И солдат, который был повыше, говорит мне: «Не бойся, сестрица, теперь мы тебя в обиду не дадим». Он это говорит, а я реву… И я так жалею, что я не спросила хотя бы их имён! Очень сожалею. Когда меня несли советские солдаты, я видела, что наши бабы поймали нашего унтершарфюрера. Он был уже в гражданской одежде, на велосипеде. И наши бабы хотели с ним что-то сделать. Разоружить и т. д. А солдаты сказали: «Предоставьте это нам». Я попросила остановиться и посмотреть, но солдаты, которые меня несли, сказали, что мне на это смотреть не надо.
Принесли меня к какой-то местной немке. Хотя и деревенский дом, но дай бог такие всем! Я переводила, а они ей велели меня помыть и накормить. При этом сказали мне, чтобы я заставляла ту немку первой пробовать еду, которую она мне даёт. Я постеснялась. Солдаты ушли. Немка согрела воду. Я стеснялась, чтобы она меня мыла… Единственное, что я решила снять обувь. Ноги были раздутые. Бордового цвета. Что талия, что ноги были абсолютно одинаковые.
Немка начала мне морочить голову, как ей было плохо при Гитлере. Спросила: Was möchtest du essen? Bratkartoffeln? («Что вы хотите съесть? Жареный картофель?» — Прим. ред.). А я когда маленькая была, когда капризничала, именно жареную картошку просила у мамы. Помню, что когда немка чистила картошку, она шелуху срезала с большим слоем самой картошки. Потом я дорого за эту жареную картошку расплатилась…
Мы там долго болели, были неприятности от того, что переедали…
В тот же дом поселили и других женщин. Вечером к нам в дом с той немкой пришли солдаты. Первая песня, которую я услышала, была: «Эх, махорочка, махорка, подружились мы с тобой. Вдаль дозоры смотрят зорко, охраняя край родной…». И потом вторая: «На позицию девушка провожала бойца…». Чтобы посидеть с остальными, я сползла с кровати… И они пили одеколон, пролили его, пели песни… Эту ночь я не забуду. Это 10 марта 1945 года.
Одна из женщин умерла в ту же ночь от переедания. Потом пришёл советский врач. Прослушал меня всю, строго-настрого сказал ничего не есть. А там у хозяйки были маринованные курочки! Мы забыли, что это такое! Врач прислал солдата с рюкзаком сухарей. Разделили эти сухари по 8 штук каждой. Было велено есть не больше двух в день. В первую же ночь сгрызли все 8! Началась эпидемия. У всех расстройство желудка.
Ходили наши солдаты. И тех, кто был покрепче, они были не прочь, так сказать, снасиловать. Но об этом не будем. Хотя я помню, что солдаты даже с претензией были. Мол, «мы каждый час можем погибнуть, а наши женщины там пашут, а вы тут не хотите…». Тот же врач выдал нашей группе справку, что мы прошли карантин.
Первые советские документы М. Г. Рольникайте — справки о том, что а) 21 апреля в армейском лазарете г. Ланц она и ещё 15 человек прошли «карантин и полную дезобработку» и отправлены в город Лауенбург и б) что 20 мая 1945 года она прошла проверку в фильтрационном пункте НКВД и следует к «избранному месту жительства – г. Вильна».
Домой!
“
Мужчины из польского лагеря где-то достали лошадь, и мы поехали в Левенбург. Там шли поезда на восток. Все запломбированные. Что-то вывозили из Германии. Дежурный на станции уже был советский офицер. Но он сказал, что ничем не может помочь, не может открыть вагон и посадить туда. Тогда мы решили ехать на крышах этих товарных вагонов. А я еле ноги передвигаю. Мужики сказали, что подтолкнут (смеётся. — Прим. ред.).
Я, когда ещё лет десять назад отдыхала в Комарово в Доме творчества, ходила смотреть на поезда.
Я до сих пор не представляю, как мы на этих поездах 9 суток ехали на крышах!
Я приехала с готовым плевритом. Но мне ещё повезло, что у меня было пальто, которое мы нашли на чердаке у той немки. Там была дыра от утюга.
Ехали так. Одна лежит, а три сидят вокруг. Ведь крыши покатые. Так сидели, чтобы не свалиться во сне. Машинисты знали, что мы на крыше едем, и они нам показывали, когда мы можем слезть. Пока ехали, находили какие-то вагоны со свёклой. Грызли эту свёклу. Так ехали через всю Польшу. В районе Кёнигсберга ещё шли бои. Доехали до Белостока. Машинисты сказали, что дальше они не едут. Там нам подсказали, что есть какой-то дом с квартирами для таких как мы — возвращающихся. Там стояли нары. Но там были одеяла и подушки! Помню, что на этой подушке я так спала, что меня всё время будили кушать, иначе спала бы дальше.
На станции, когда мы слезли с нашего поезда, я увидела состав, который шёл из Вильнюса. Товарный. И я узнала нашего дворника! Подхожу к нему: «Пан Казимиш, джень добри!». Он долго смотрит на меня. Я ему тогда и говорю, что я дочка адвоката Рольникаса. Он перекрестился и говорит: «А пан адвокат жив!». Сказал, что дома нашего в Вильнюсе уже нет, а сам он спасся в домах напротив. Они меньше пострадали при освобождении. Пан Казимиш сказал, что видел отца в военной форме. И предупредил, чтобы я не показывалась отцу сразу, ведь он думает, что я погибла.
Он испугается, что я с того света.
В Белостоке мы пробыли несколько суток. Вели всё дискуссии —ехать домой или ехать в Палестину (англичане туда не пускали, это было не так просто, как стало потом). Но я, узнав про папу, даже не думала про другие варианты уже. На станции удалось попасть уже не в товарный состав, он шёл в сторону Гродно. Ехали-ехали, и вдруг поезд останавливается днём, а советские солдаты говорят: «Всем выходить». Мои попутчики занервничали: «Опять солдаты!». А я думаю: «Чего это они недовольны, это же не немцы, а свои?».
Всех построили. Это была целая история. Когда нас сняли с поезда в Гродно, меня не сильно интересовало, куда меня ведут. Свои же ведут. Со мной был портфельчик. Там мои бумажки, трофейное полотенечко и маленький кусок мыла. Там же лежали трофейные тетради, куда я переписывала начисто все свои записки и воспоминания.
Одна из этих тетрадок сейчас хранится в вашингтонском музее Холокоста. Говорят, что в том музее есть уголок про меня. Мне рассказывали.
Нас привели в большой дом. А там мне просто сказали: идите на любой этаж, займите любое место, вас вызовут. Я доползла там только до второго этажа. И там один дядька сказал, что я тут посижу какое-то время: «Они проверяют, кто едет. Это НКВД». А я про НКВД знала только то, что до войны они вывозили людей в Сибирь из Прибалтики. Но страха не было. Они же свои. Форма-то не немецкая. Потом вызвали. Спросили фамилию. Я назвала. «Что это за фамилия такая — Рольникайте?» — спрашивают. Я говорю: «Нормальная фамилия. Папа — Рольникас. Мама — Рольникиене». «Почему у всех разные фамилии?!» — снова спрашивают. Я объясняю, что одна мужская, другая женская замужняя, а у меня девичья. Записали Рольник. Дальше спрашивают имя. Я говорю — Маша. Написали в итоге Мария. Поскольку тогда я помнила все факты, все немецкие фамилии, и когда, рассказывая, дошла до момента, когда нас разлучили с мамой, мой собеседник закурил.
Я там пробыла всего несколько дней. Видимо, сообразили, что я не шпионка.
День Победы встретила в фильтрационном пункте НКВД! Это, конечно, смешно, но не очень. Мы там спали на сенниках. Ни подушки, ни одеяла, ничего. И вдруг приходит солдат и заявляет: «Победа! Всем на танцы!».
Какие танцы? Я еле ноги волочу! Я там села в углу и думала только одну мысль: «Теперь никого не будут убивать». Солдаты стреляли в воздух, но у меня не было сил радоваться.
Я, когда ещё лет десять назад отдыхала в Комарово в Доме творчества, ходила смотреть на поезда.
Я до сих пор не представляю, как мы на этих поездах 9 суток ехали на крышах!
Я приехала с готовым плевритом. Но мне ещё повезло, что у меня было пальто, которое мы нашли на чердаке у той немки. Там была дыра от утюга.
Ехали так. Одна лежит, а три сидят вокруг. Ведь крыши покатые. Так сидели, чтобы не свалиться во сне. Машинисты знали, что мы на крыше едем, и они нам показывали, когда мы можем слезть. Пока ехали, находили какие-то вагоны со свёклой. Грызли эту свёклу. Так ехали через всю Польшу. В районе Кёнигсберга ещё шли бои. Доехали до Белостока. Машинисты сказали, что дальше они не едут. Там нам подсказали, что есть какой-то дом с квартирами для таких как мы — возвращающихся. Там стояли нары. Но там были одеяла и подушки! Помню, что на этой подушке я так спала, что меня всё время будили кушать, иначе спала бы дальше.
На станции, когда мы слезли с нашего поезда, я увидела состав, который шёл из Вильнюса. Товарный. И я узнала нашего дворника! Подхожу к нему: «Пан Казимиш, джень добри!». Он долго смотрит на меня. Я ему тогда и говорю, что я дочка адвоката Рольникаса. Он перекрестился и говорит: «А пан адвокат жив!». Сказал, что дома нашего в Вильнюсе уже нет, а сам он спасся в домах напротив. Они меньше пострадали при освобождении. Пан Казимиш сказал, что видел отца в военной форме. И предупредил, чтобы я не показывалась отцу сразу, ведь он думает, что я погибла.
Он испугается, что я с того света.
В Белостоке мы пробыли несколько суток. Вели всё дискуссии —ехать домой или ехать в Палестину (англичане туда не пускали, это было не так просто, как стало потом). Но я, узнав про папу, даже не думала про другие варианты уже. На станции удалось попасть уже не в товарный состав, он шёл в сторону Гродно. Ехали-ехали, и вдруг поезд останавливается днём, а советские солдаты говорят: «Всем выходить». Мои попутчики занервничали: «Опять солдаты!». А я думаю: «Чего это они недовольны, это же не немцы, а свои?».
Всех построили. Это была целая история. Когда нас сняли с поезда в Гродно, меня не сильно интересовало, куда меня ведут. Свои же ведут. Со мной был портфельчик. Там мои бумажки, трофейное полотенечко и маленький кусок мыла. Там же лежали трофейные тетради, куда я переписывала начисто все свои записки и воспоминания.
Одна из этих тетрадок сейчас хранится в вашингтонском музее Холокоста. Говорят, что в том музее есть уголок про меня. Мне рассказывали.
Нас привели в большой дом. А там мне просто сказали: идите на любой этаж, займите любое место, вас вызовут. Я доползла там только до второго этажа. И там один дядька сказал, что я тут посижу какое-то время: «Они проверяют, кто едет. Это НКВД». А я про НКВД знала только то, что до войны они вывозили людей в Сибирь из Прибалтики. Но страха не было. Они же свои. Форма-то не немецкая. Потом вызвали. Спросили фамилию. Я назвала. «Что это за фамилия такая — Рольникайте?» — спрашивают. Я говорю: «Нормальная фамилия. Папа — Рольникас. Мама — Рольникиене». «Почему у всех разные фамилии?!» — снова спрашивают. Я объясняю, что одна мужская, другая женская замужняя, а у меня девичья. Записали Рольник. Дальше спрашивают имя. Я говорю — Маша. Написали в итоге Мария. Поскольку тогда я помнила все факты, все немецкие фамилии, и когда, рассказывая, дошла до момента, когда нас разлучили с мамой, мой собеседник закурил.
Я там пробыла всего несколько дней. Видимо, сообразили, что я не шпионка.
День Победы встретила в фильтрационном пункте НКВД! Это, конечно, смешно, но не очень. Мы там спали на сенниках. Ни подушки, ни одеяла, ничего. И вдруг приходит солдат и заявляет: «Победа! Всем на танцы!».
Какие танцы? Я еле ноги волочу! Я там села в углу и думала только одну мысль: «Теперь никого не будут убивать». Солдаты стреляли в воздух, но у меня не было сил радоваться.
Встреча с отцом
“
12 мая я вернулась в Вильнюс. Подошла к школе. Никого там не было. Я пошла по новому адресу отца, который подсказал дворник. Там было написано «Доктор, юрист Рольникас». Стою у двери, а зайти боюсь… Постучала. Мне открыла женщина. Сразу вынесла кусок хлеба. Решила, что я нищенка. Ещё бы! Я в дырявом пальто, с короткими волосами. Я отказалась. Мне ведь выдали хлеба и крупы в фильтрационном пункте НКВД. Я уточнила, здесь ли живёт адвокат Рольникас. Женщина сказала «да». Я назвала себя. Женщина удивилась: «Вы Маша? Вы живы!». Оказалось, что моя старшая сестра Мира тоже жива. Папа был уже женат, но мне сказали, что «он ночует у знакомых». Его демобилизовали раньше. Есть такая еврейская поговорка: когда вор нужен, его снимают с виселицы. Папа был беспартийный еврей. Но уже шли бои около Литвы, и правительство готовилось вернуться. Были нужны юристы. Отец мой был доктором юридических наук. Его поэтому раньше демобилизовали. И он приехал вместе с правительством раньше других. Его помощница мне рассказала, что он работает в Совете народных комиссаров и питается в казённой столовой. Посоветовала его там искать утром. Я была без часов, ходила там долго. Я его узнала издалека. У него была белая голова. Он таким всегда был. Не помню его другим с детства. Я перебежала через улицу.
Он меня обхватил. Руки у него дрожали. И он только повторял: «Ты жива… Ты жива… Ты жива…».
Я его увидела первой. Он сказал, что узнал меня ещё издалека. Папа не любил врать, но я увидела, что он говорит неправду. А я уткнулась ему в плечо. И мне больше ничего не надо было...
Он меня обхватил. Руки у него дрожали. И он только повторял: «Ты жива… Ты жива… Ты жива…».
Я его увидела первой. Он сказал, что узнал меня ещё издалека. Папа не любил врать, но я увидела, что он говорит неправду. А я уткнулась ему в плечо. И мне больше ничего не надо было...
Гирш Абелевич Рольник (по-литовски Рольникас). Родился 22 мая 1898 года в городе Плунге (тогда Плунгяны), Литва. Окончил Рижскую русскую гимназию, затем учился в Германии, в Лейпциге, где защитил диссертацию на тему «Балтийские государства — Литва, Латвия и Эстония — и их конституционное право», изданную в 1927 году. Работал директором еврейской гимназии в Рассейняй. Чтобы получить право на работу в Литве, экстерном окончил Каунасский университет. Всю жизнь работал адвокатом. Во время войны — на фронте. Воевал в 16-й Литовской дивизии. Выжил. Умер 22 ноября 1973 года в Вильнюсе.
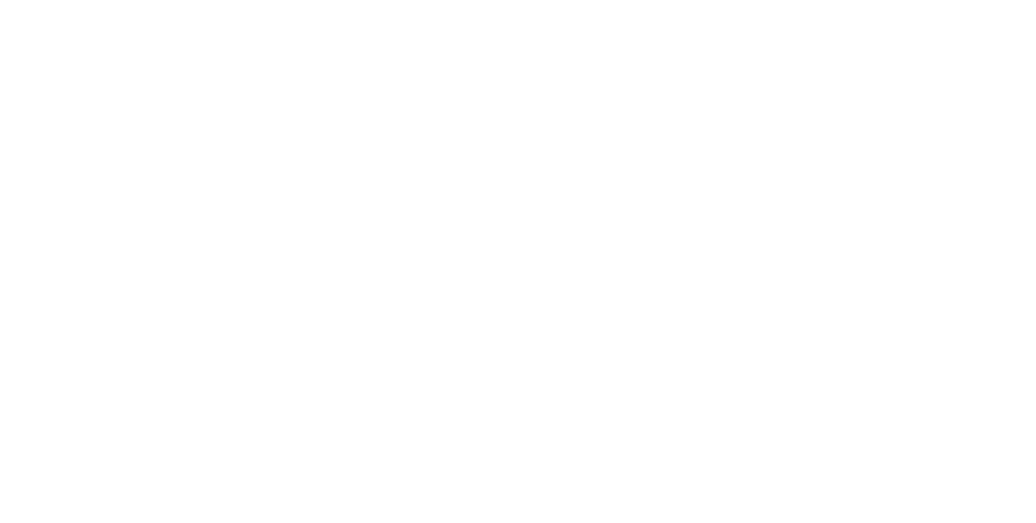
Фото из архива Марии Рольникайте
“
Дрожащим голосом он стал говорить: «Ты знаешь, как мы жили с твоей мамой…». Они вместе были 16 лет. Он растерялся. Мы зашли в какой-то дом. Он говорит: «Маша вернулась». Я вижу, лежит женщина в постели, а рядом мужская пижама. Я всё поняла сразу. Поставили чай, а я всё удивляюсь, что папа в чужом доме открывает буфет, достаёт оттуда хлеб, печенье.
Я забыла, что существует печенье!
Он ушёл на работу. Его новая жена Кира Александровна дала мне своё платье, чтобы я сходила в баню. Вечером вернулась Мира. Мы с ней жили потом в этой папиной комнате.
Кира Александровна мне говорила, что если вернётся наша мама, они с отцом разойдутся. Ей было неловко. Но очень недолго.
Я забыла, что существует печенье!
Он ушёл на работу. Его новая жена Кира Александровна дала мне своё платье, чтобы я сходила в баню. Вечером вернулась Мира. Мы с ней жили потом в этой папиной комнате.
Кира Александровна мне говорила, что если вернётся наша мама, они с отцом разойдутся. Ей было неловко. Но очень недолго.
Старшая сестра Мириам (Мира) Гиршовна Лисаускене (урождённая Рольникайте). Родилась 12 сентября 1924 года в Риге. Была в гетто, затем в укрытии — спасена директором государственного архива в Вильнюсе ксёндзом Йозасом Стакаускасом, учителем Владасом Жемайтисом и бывшей монахиней Марией Микульской, которые в сентябре 1943 года устроили в переданном архиву здании бывшего бенедиктинского монастыря тайную комнату и спрятали там двенадцать евреев, в том числе — троих детей. Стакаускас, Жемайтис и Микульска тайно кормили прячущихся до 12 июля 1944 года, когда Вильнюс был освобождён. После войны Мира окончила юридический факультет Вильнюсского университета и до выхода на пенсию работала адвокатом в Клайпеде. Умерла в 2012 году.

Фото из архива Марии Рольникайте
Снова мирная жизнь
“
Два года после возвращения, когда шла по тротуару в Вильнюсе, всё время ловила себя на мысли, что мне ведь нельзя идти по тротуару.
Я иду без этой жёлтой звезды, а я же в Вильнюсе.
Я пошла на работу в управление искусств, считалась там экономистом. Папа говорил, что мне надо учиться. Хотя бы окончить школу. А я говорила ему: «Какая разница, сколько будет а + b в квадрате и куда впадает Миссисипи?!». Мой старый школьный учитель Юнайтис тоже мне всё предлагал помощь и по физике, и по математике. А я не могла себя заставить. Потом меня папа допилил, и я пошла в вечернюю школу для рабочей молодёжи. Первым уроком была алгебра. Мне и теперь японская грамота кажется более понятной! Но чувство долга есть в генах, вечернюю школу я окончила. Решила пойти в литературный институт.
За эти два года я начисто переписала все свои дневники и воспоминания. Получились две толстые тетради. Перевязала чёрной ленточкой и сунула в нижний ящик письменного стола. Кроме папы и сестры, никто не знал, что у меня есть эти записи. Папа не очень понимал мою тягу к литературе. Плюс тогда были все эти постановления про Анну Ахматову, Вано Мурадели. Отец говорил, что меня раскритикуют, и что делать потом — непонятно. Он хотел, чтобы я стала инженером или преподавателем языков. Я же знала несколько языков. Я ему ответила, что не смогу из года в год объяснять склонения.
Я понимала, что по умолчанию моего дневника не существует. Антисемитизм был очень сильный…
Я написала какую-то дурацкую пьесу для самодеятельности. Почему-то оказалось, что её достаточно для литературного института. Я поступила.
Я иду без этой жёлтой звезды, а я же в Вильнюсе.
Я пошла на работу в управление искусств, считалась там экономистом. Папа говорил, что мне надо учиться. Хотя бы окончить школу. А я говорила ему: «Какая разница, сколько будет а + b в квадрате и куда впадает Миссисипи?!». Мой старый школьный учитель Юнайтис тоже мне всё предлагал помощь и по физике, и по математике. А я не могла себя заставить. Потом меня папа допилил, и я пошла в вечернюю школу для рабочей молодёжи. Первым уроком была алгебра. Мне и теперь японская грамота кажется более понятной! Но чувство долга есть в генах, вечернюю школу я окончила. Решила пойти в литературный институт.
За эти два года я начисто переписала все свои дневники и воспоминания. Получились две толстые тетради. Перевязала чёрной ленточкой и сунула в нижний ящик письменного стола. Кроме папы и сестры, никто не знал, что у меня есть эти записи. Папа не очень понимал мою тягу к литературе. Плюс тогда были все эти постановления про Анну Ахматову, Вано Мурадели. Отец говорил, что меня раскритикуют, и что делать потом — непонятно. Он хотел, чтобы я стала инженером или преподавателем языков. Я же знала несколько языков. Я ему ответила, что не смогу из года в год объяснять склонения.
Я понимала, что по умолчанию моего дневника не существует. Антисемитизм был очень сильный…
Я написала какую-то дурацкую пьесу для самодеятельности. Почему-то оказалось, что её достаточно для литературного института. Я поступила.
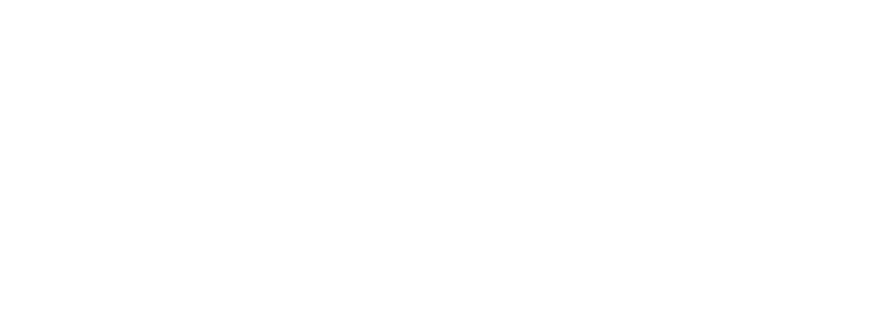
Фото из архива Марии Рольникайте
Дневники лежали в столе 15 лет
“
Я вспомнила про дневники в 1961 году, когда началась очередная антисемитская кампания в СССР. Решила, что больше нельзя сидеть в кустах. Я же вела дневник на еврейском языке. Я перевела его на литовский. В Литве было два издательства. Художественной литературы и политической и научной. В первом документальные тексты не принимали. Понесла во второе.
Мои записи листали долго. Спрашивали: «А названные люди — реальные? А фамилии не выдуманные? А все факты настоящие?».
И потом положили отдельно. На прощание сказали, что позвонят.
Месяц, два, четыре — тишина. Я позвонила. Сказали, что моя рукопись лежит теперь в институте истории партии при ЦК на рецензии. Рецензия там была разгромная.
Они сказали, что мой текст «написан из неклассовых позиций»!
Вот я очень знала в 14 лет, что это вообще такое! Что один мой герой оказался «буржуазным националистом», другого вообще «не существовало». Это про моего учителя Юнайтиса. Он был готов сходить в издательство с паспортом. Я было уже потеряла надежду, но там работал бывший узник Каунасского гетто. Он мне подсказал. Ведь у меня было написано, да и все так тогда говорили, — «немцы» и «литовцы». А так говорить было нельзя в советской Литве, сталинской Литве. Можно было говорить «фашисты».
Я за одну ночь всех их переписала таким образом. «Литовцы» у меня стали просто «бандитами». Немцы —«фашистами».
И я ведь не думала даже, что можно издать на русском.
На фото: Мария Рольникайте в разные годы после войны
Мои записи листали долго. Спрашивали: «А названные люди — реальные? А фамилии не выдуманные? А все факты настоящие?».
И потом положили отдельно. На прощание сказали, что позвонят.
Месяц, два, четыре — тишина. Я позвонила. Сказали, что моя рукопись лежит теперь в институте истории партии при ЦК на рецензии. Рецензия там была разгромная.
Они сказали, что мой текст «написан из неклассовых позиций»!
Вот я очень знала в 14 лет, что это вообще такое! Что один мой герой оказался «буржуазным националистом», другого вообще «не существовало». Это про моего учителя Юнайтиса. Он был готов сходить в издательство с паспортом. Я было уже потеряла надежду, но там работал бывший узник Каунасского гетто. Он мне подсказал. Ведь у меня было написано, да и все так тогда говорили, — «немцы» и «литовцы». А так говорить было нельзя в советской Литве, сталинской Литве. Можно было говорить «фашисты».
Я за одну ночь всех их переписала таким образом. «Литовцы» у меня стали просто «бандитами». Немцы —«фашистами».
И я ведь не думала даже, что можно издать на русском.
На фото: Мария Рольникайте в разные годы после войны
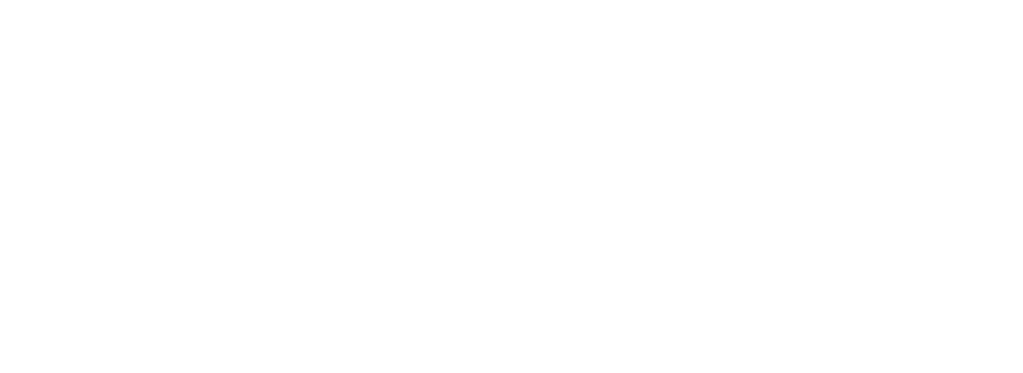
Фото из архива Марии Рольникайте
“
Потом про мою рукопись узнал Илья Эренбург. Я поехала к нему. Он сказал, что очень занят и скоро не прочтёт. На шестой день после моего визита, не успела вернуться в Вильнюс, уже получила письмо от него: «Я прочел ваш дневник не отрываясь в тот же день. Сделайте всё, чтобы вышло в Советском Союзе. А я сделаю всё, чтобы вышло во Франции, я напишу предисловие».
Отправила рукопись в журнал «Звезда». Они написали Эренбургу письмо, он ответил согласием. Но вдруг я получаю письмо от его друга — «я вам выслал сборничек стихов, обратите внимание на обложку». Получила сборничек стихов, такой фиговый, смотрю —обложка как обложка. Потом обратила внимание — задняя часть «беременная», она толще, чем передняя. Оказывается, туда спрятано письмо: Илья Григорьевич просил объяснить вам, что не хочет вам навредить, у него серьезные проблемы с руководством, и лучше пусть к русскому изданию предисловие пишет Межелайтис (Eduardas Mieželaitis — литовский советский поэт, переводчик, эссеист. — Прим. ред.).
Господи, какие могут быть разговоры! Где я и где Эренбург!
Это было в декабре 1964 года. Мы потом встречались с ним лично, он стал объяснять, почему отказался. Я говорю: пожалуйста, не надо ничего объяснять! Но в итоге во Франции книга вышла с его предисловием.
Отправила рукопись в журнал «Звезда». Они написали Эренбургу письмо, он ответил согласием. Но вдруг я получаю письмо от его друга — «я вам выслал сборничек стихов, обратите внимание на обложку». Получила сборничек стихов, такой фиговый, смотрю —обложка как обложка. Потом обратила внимание — задняя часть «беременная», она толще, чем передняя. Оказывается, туда спрятано письмо: Илья Григорьевич просил объяснить вам, что не хочет вам навредить, у него серьезные проблемы с руководством, и лучше пусть к русскому изданию предисловие пишет Межелайтис (Eduardas Mieželaitis — литовский советский поэт, переводчик, эссеист. — Прим. ред.).
Господи, какие могут быть разговоры! Где я и где Эренбург!
Это было в декабре 1964 года. Мы потом встречались с ним лично, он стал объяснять, почему отказался. Я говорю: пожалуйста, не надо ничего объяснять! Но в итоге во Франции книга вышла с его предисловием.
Муж Марии Григорьевны — Семён Савельевич Цукерник (1922–2008) — родился в Ленинграде, окончил Политехнический институт, инженер. Воевал на Дальнем Востоке, демобилизовался в звании старшего лейтенанта
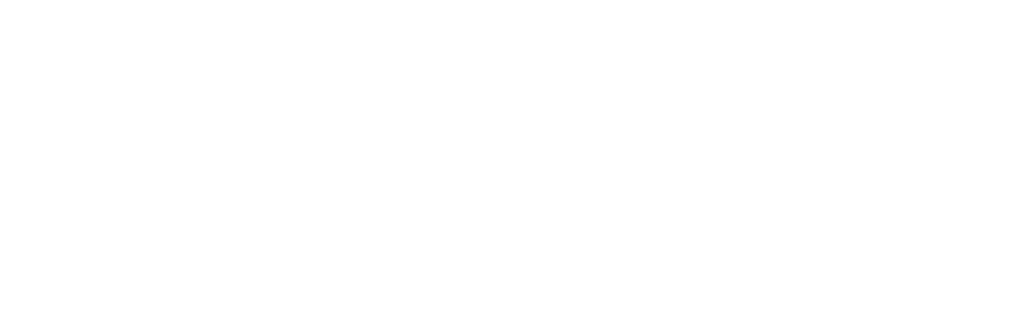
Фото из архива Марии Рольникайте
“
На русском языке книга вышла сразу за литовским изданием, а потом стала выходить, выходить, выходить. Хорошо, что печатается. Если бы еще и читали…
Мне говорят: ну что вы всё об этом и об этом, пора забыть! Мы все знаем, зачем это нужно! Я в ответ молчу. Мне это больно слышать. Я боюсь, что всё это будет повторяться.
Очень силен в людях инстинкт самосохранения: «только не расстраиваться». История учит тому, что она ничему не учит.
Мне говорят: ну что вы всё об этом и об этом, пора забыть! Мы все знаем, зачем это нужно! Я в ответ молчу. Мне это больно слышать. Я боюсь, что всё это будет повторяться.
Очень силен в людях инстинкт самосохранения: «только не расстраиваться». История учит тому, что она ничему не учит.
Разговор состоялся весной 2015 года. Это последнее интервью Марии Рольникайте. 7 апреля 2016 года она ушла из жизни. Похоронена на Преображенском еврейском кладбище Санкт-Петербурга. Книги Марии Рольникайте переведены на 18 языков.
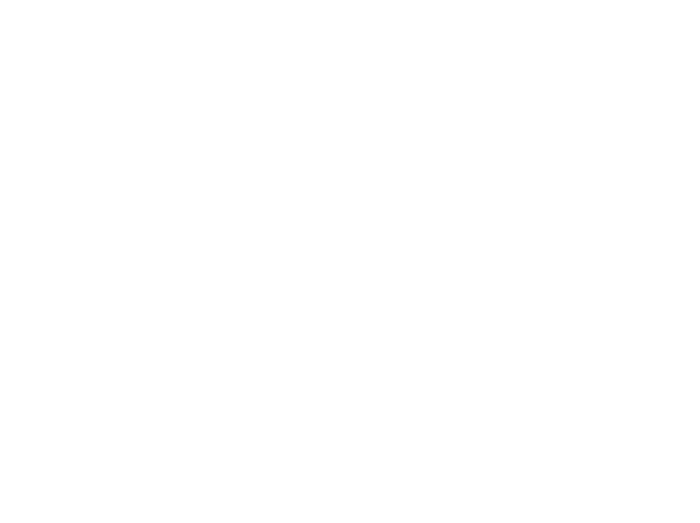
Мария Рольникайте
коллаж "Фонтанка.ру"
Текст — Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»
Подготовка фото и документов из личного архива Марии Рольникайте — Илья Бернштейн
Верстка/дизайн: Светлана Григошина
Подготовка фото и документов из личного архива Марии Рольникайте — Илья Бернштейн
Верстка/дизайн: Светлана Григошина
Просмотров: 2516

