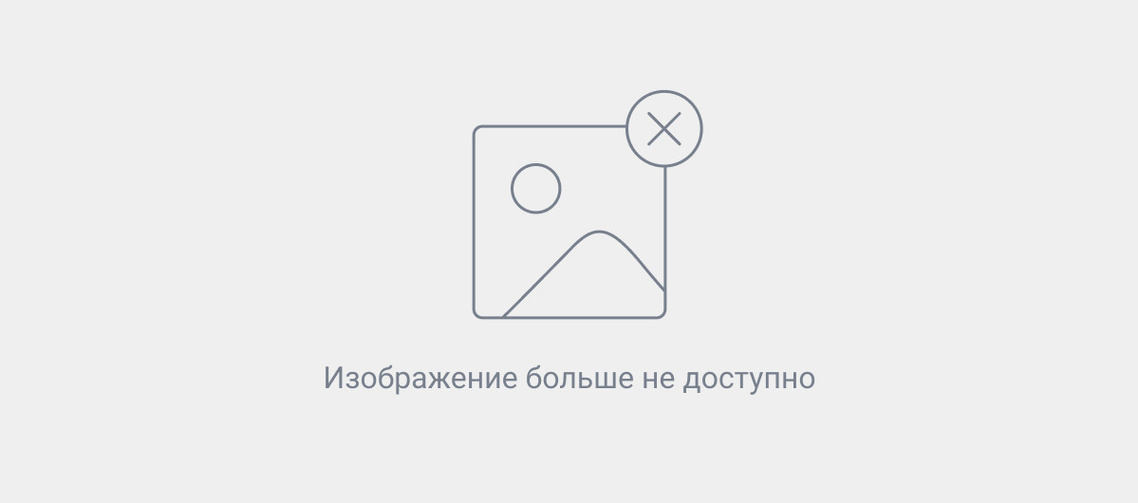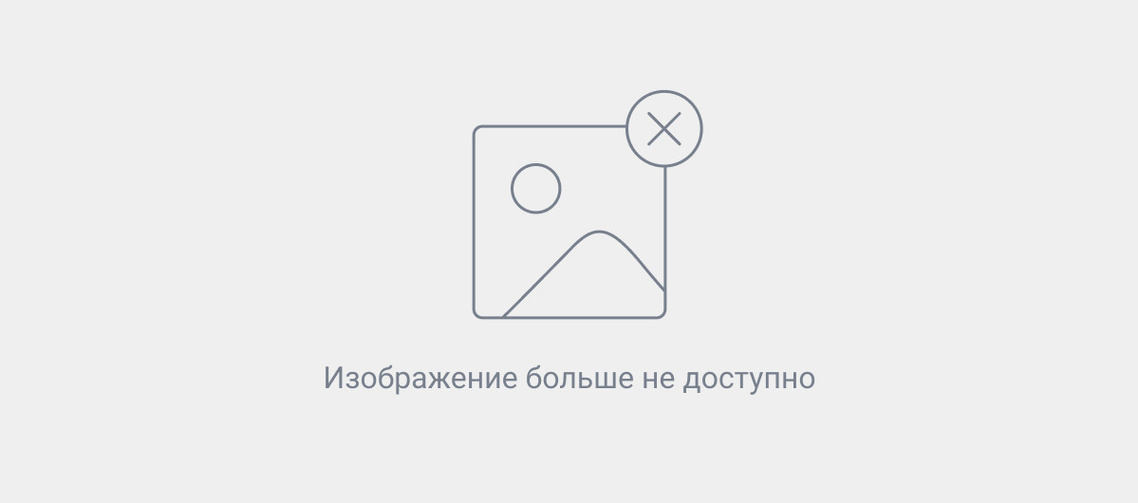
 Поделиться
ПоделитьсяВ июне на Летнем Книжном Фестивале в ЦДХ было проведено, наряду с прочими, некое довольно странное литературное мероприятие: двое из трех ведущих прозаиков Санкт-Петербурга – Илья Бояшов и Павел Крусанов (третий из большой троицы – Сергей Носов – в те дни в поисках вдохновения совершал восхождение на Гималаи) – должны были порассуждать перед, увы, немногочисленной публикой на заезженную тему литературного (и не только) противостояния Москвы и Питера. Странность мероприятия заключалась в том, что беседовать и, соответственно, спорить им предлагалось не с москвичами, а исключительно друг с другом.
Писатели, естественно, несколько подрастерялись. Сидя в первом ряду, я поспешил подсказать им чуть более вразумительный повод для беседы: «Вот вы, Павел, в Питере живете – и это отзывается буквально в каждой строке вами написаннного. А вот вы, Илья, тоже наш земляк, но пишете так, словно постоянно живете на Марсе. Вот и поговорите о том, как и почему оно у вас так у обоих выходит!»
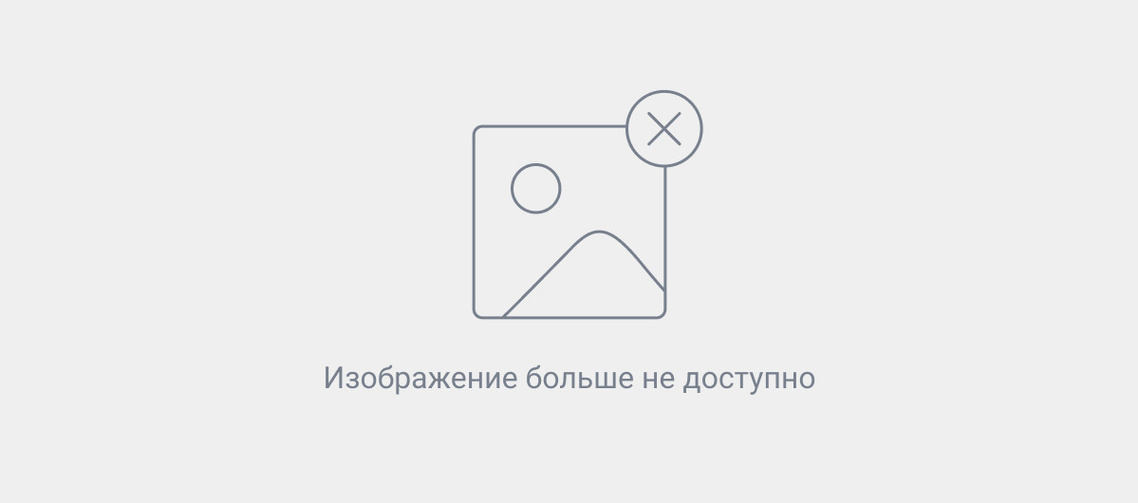
 Поделиться
Поделиться
Да ведь и впрямь: действие трилогии Павла Крусанова «Бим-бом»-«Американская дырка»-«Мертвый язык» разворачивается в декорациях нашего города, среди героев его прозы фигурируют под собственными именами или под более-менее прозрачными псевдонимами многие заметные фигуры здешнего культурного и культурологического пейзажа – и даже в откровенно условном романе-притче «Укус ангела» магически оживает метафизический Петербург Андрея Белого и, не в последнюю очередь, Николая Гоголя. Проза Павла Крусанова, сказал бы мой покойный однофамилец, прочно вписана в «петербургский текст».
Тогда как Илья Бояшов рассказывает нам то о длительном путешествии котика, брошенного хозяевами на пепелище и теперь разыскивающего их по всей Европе (роман «Путь Мури»), то о гигантстком боевом флоте, который внезапно остался и без военно-морского противника и без материковых целей, потому что вся земная суша куда-то таинственным образом подевалась (роман «Армада»), то о фантастической схватке двух супертанков – советского и немецкого (роман «Танкист, или Белый «тигр»), а то и вовсе о каких-нибудь средневековых скандинавах (роман «Конунг»). Одним словом, предается полету фантазии, никак не привязанной ни к месту, ни ко времени своего постоянного проживания.
Беседу свою наши писатели тогда кое-как разрулили; о Крусанове (да и о Носове) поговорим, когда представится повод; а сейчас сосредоточимся на Бояшове, успевшем за это время подтвердить верность моих московских наблюдений аж дважды – причем как напрямую, так и от противного.
От противного получился у Бояшова типично петербургский текст «Кто не знает Братца Кролика» (этот роман вышел в «Лимбусе»): маловыразительное повествование о пьянках-гулянках питерской литературной молодежи пятнадцатилетней давности. Отличие Ильи Бояшова и его героя-рассказчика от прозы «петербургских фундаменталистов» только в том, что пьют они не в «Борее», а в кафе «Гном» на том же Литейном, и ведут разговоры не имперски-державного, а национально-патриотического содержания.
Кстати, в советское время я сочинил четверостишие «Вот Большой дом и кафе «Гном», я сижу в нем, угадай, в ком?» - и посвятил его членам пресловутого «Клуба-81», которому КГБ любезно (или по лености?) предоставил помещение на улице Петра Лаврова - в аккурат рядом с Большим домом (Литейный, 4-6).
«Кролик» у Бояшова получился, на мой вкус, малосъедобным, доказав тем самым, что этому писателю лучше творить не «из жизни», а из живой игры воображения, подкрепленной раздумьями и изысканиями. Справедливости ради отмечу, что написан роман давно, по горячим следам тогдашнего лихолетья, а сейчас только «доведен до ума», - но, возможно, как раз поэтому вспоминается известное правило о мясных котлетах: их можно есть свежепожаренными или холодными, но ни в коем случае не подогревать остывшие!
Куда более приятное (потому что прямое!) доказательство моей правоты – роман «Каменная баба», только что опубликованный в июльской книжке «Октября» и выходящий в начале осени все в том же «Лимбусе». Это, может быть, не Бояшов at his best, но, безусловно, - a real thing, то есть Бояшов как Бояшов. Перед нами умозрительная и вместе с тем уморительная сатира на всю нашу нынешнюю жизнь, написанная в форме апокрифического жития некоей Маши Угаровой, местами (и мясами) крайне похожей на одну нашу практически бессмертную эстрадную знаменитость.
Впрочем, как раз эта точечная прицельность сатиры объективно работает, по-моему, отнюдь не на авторский замысел: ковровое бомбометание выходит у фантазера Бояшова куда смешнее. Во всяком случае, поняв (не сразу), куда именно автор клонит, – а клонит он к тому, чтобы деревенская, а потом общежитская нахрапистая Клеопатра превратилась во всесоюзную Примадонну и всероссийскую Диву, - я несколько огорчился. Хорошо хоть, правда, что не в Ксению Собчак!
Главное достоинство «Каменной бабы» - последовательное и неукоснительное применение литературного приема, который Виктор Шкловский назвал «остранением» (а Бертольт Брехт – «очуждением»), - свежий, «незамыленный» взгляд на абсурдные вещи, до поры до времени не казавшиеся нам абсурдными только потому, что они привычны. Незамыленным взглядом смотрит прозаик Бояшов на сегодняшнюю (да и вчерашнюю) Россию. В заключение позволю себе перефразировать Ницше: всё, что нас не убивает, непременно имеет (наряду с ужасными) невероятно смешную сторону.
Виктор Топоров,
«Фонтанка.ру»