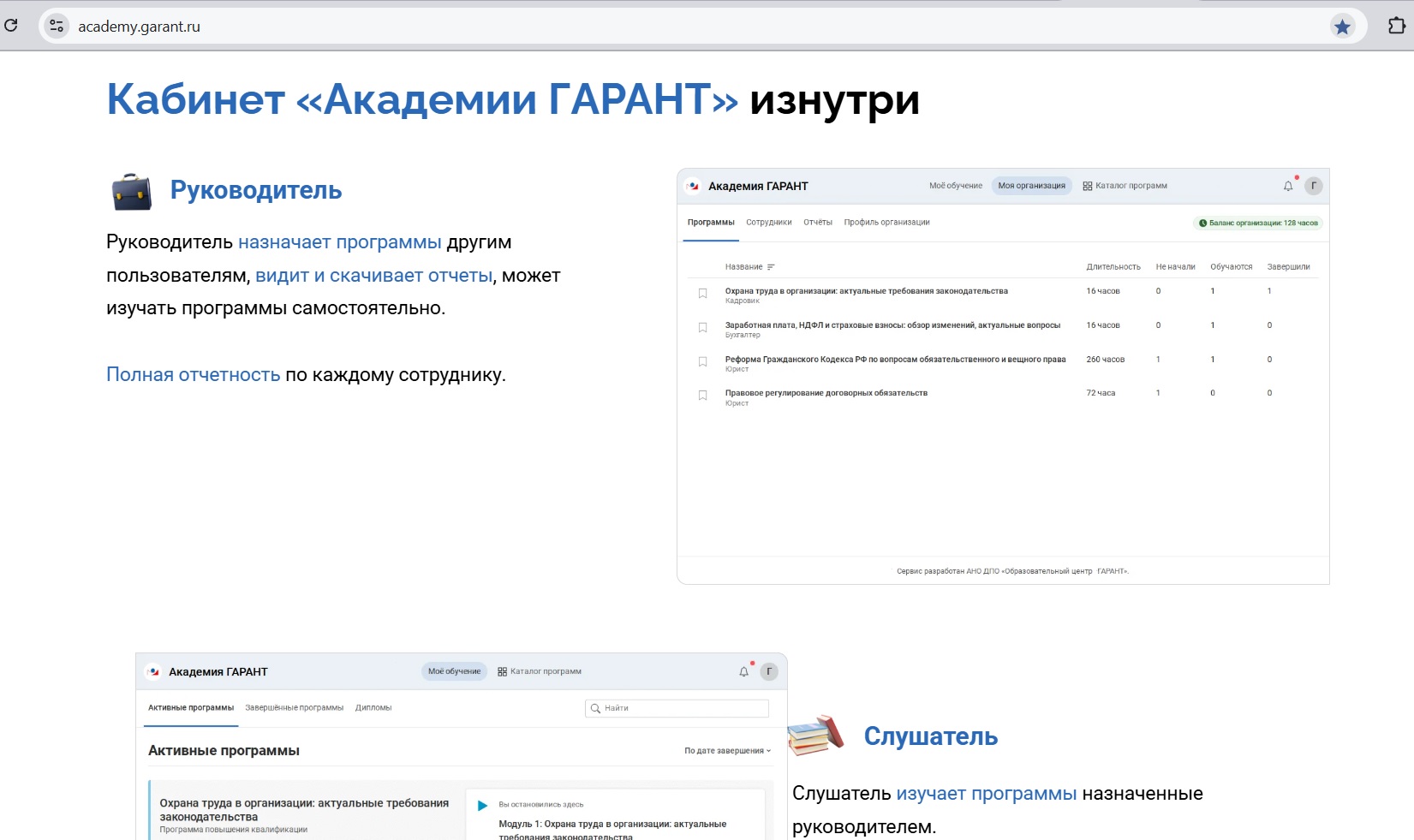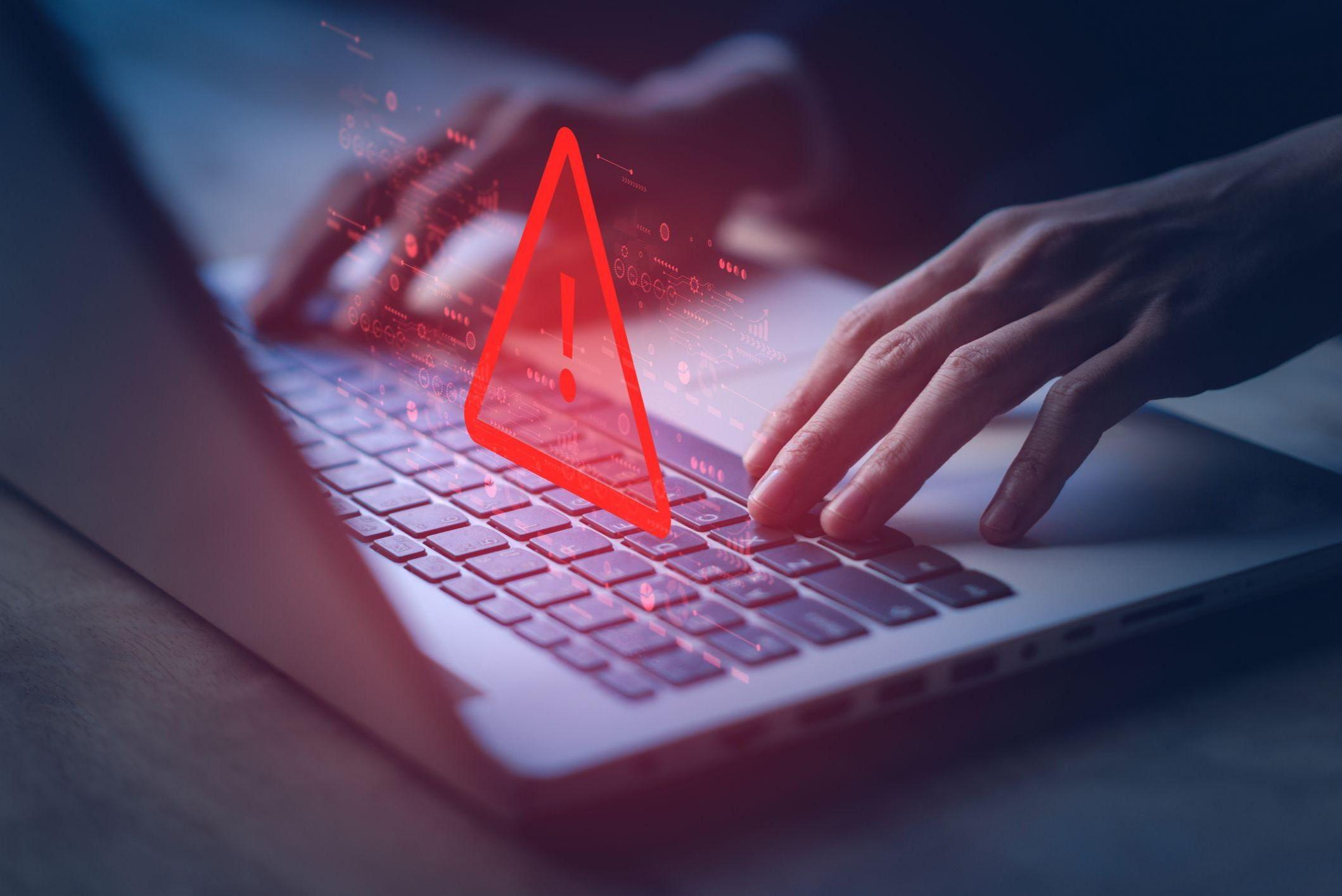Сегодня на Венецианском кинофестивале премьера нового фильма российского режиссёра Ивана И. Твердовского. «Фонтанка» спросила режиссера о корректировке памяти людей в отношении массовой гибели заложников и об исследовании болевых точек в авторском кино.
Табуированная в России тема захвата заложников во время показа мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году, за которую взялся Иван И. Твердовский, — это не расследование трагедии, а рассказ о том, как живут после, — пояснил «Фонтанке» режиссёр. В центре сюжета фильма — женщина, которая после теракта, где гибнет её сын, уходит в монастырь, но спустя 17 лет возвращается в Москву, чтобы провести вечер памяти. «Сумеет ли Наталья заслужить прощение собственной семьи?» — завершается риторическим вопросом аннотация к фильму.
— Иван, как вы пришли к фильму по такой страшной истории, как теракт с мюзиклом «Норд-Ост»?
— У меня с детства были пересечения с этой историей — это самое страшное моё воспоминание из детства. Мне было 11 лет, когда все случилось. Я жил в десяти минутах езды оттуда. Плюс я сам из кинематографической семьи, и мои родители были знакомы с теми, кто работал в труппе мюзикла, я с детства общался с ребятами из детской труппы. Я постоянно «упирался» в эту трагедию. Для меня как москвича было странным не снять эту картину. Но требовалось время, чтобы получить профессиональный опыт, чтобы начать говорить об этом. Нужна была дистанция…

— Хотели давно, но руки дошли только теперь?
— Мысль про этот фильм у меня возникла в 2015 году, перед «Зоологией» (фильм Твердовского 2016 года. — Прим. ред.). Я подумал, что действительно про это никто не говорит, никто не помнит, ничего нет про это. Готовой истории у меня тогда не было. Я понимал, что меня тянет в какую-то публицистику, что плохо для режиссёра кино.
— Публицистика — это уже журналистика. Но вы же и начинали с документального кино.
— Да. Я много занимался документальным кино. Именно поэтому изначально я тяготел именно к фактологии, к документальным вещам. И мне это не позволяло просто оторваться от той реальности, которая есть. Но года два назад мне моя подруга случайно рассказала о том, что в театральном центре на Дубровке сейчас «цирк танцующих фонтанов». Я уточнил: неужели вот прямо так? Решили сходить. И мы были в шоке. Там все помещения остались абсолютно в том же виде, как и 18 лет назад. Не было никакого ремонта в здании. Просто кресла поменяли. До сих пор в фойе следы от пуль. При этом там «цирк танцующих фонтанов». Идёшь увидеть что-то мемориальное — приходишь в цирк… И тогда я начал ощущать, что пока это место живёт вот в таком виде, пока оно имеет эту память, надо этим начинать заниматься. Мы снимали прямо там.

— Насколько фильм «Конференция» — по реальным событиям, а насколько — вымысел?
— Мы старались всё-таки следовать фактологии, невозможно её избежать. Но в основе фильма всё-таки история вымышленная. Для меня она соединяет три истории трёх реальных женщин. Одна стала монахиней после всех этих событий. Женщина, которая пришла на «Норд-Ост» со своим мужем, семьёй, детьми, но ей стало плохо в самом начале мюзикла, она уехала домой. А в начале второго акта произошёл захват, в результате теракта эта женщина потеряла сына. И история двух женщин, которые в первую ночь выпрыгнули в окна туалета. У нас получился манёвр для художественного высказывания, собирательный образ человека.
— При этом в фильме есть люди, которые были в центре на Дубровке? Вы им что сказали, чтобы они приняли участие в художественном произведении?
— Это Филипп Авдеев и Рома Шмаков. Они были маленькими тогда, им было 9–10 лет, они работали в детской труппе «Норд-Оста». Рома репетировал в одном из залов, когда произошёл захват. Террористы согнали детей на балкон второго этажа. Рома просидел все три дня в зале. А Филипп спрятался в гримёрке. Он должен был выходить на сцену во втором акте. Ночью через окно он смог сбежать с другими ребятами из той гримёрки. Ребята мне поверили, что с моей стороны в их приглашении нет никакой конъюнктуры. Мне было очень важно, чтобы они были внутри процесса, чтобы видели, как мы это снимаем. Стали камертоном этой истории. При этом и Филипп, и Рома являются прекрасными актёрами.
— Пришлось уговаривать?
— Для них это табуированная тема. Им сложно о ней говорить. Но они мне сказали, что если я считаю нужным делать так, а не иначе, то они мне доверяют. Мне было очень важно, что они — актёры, которые попали в документальные обстоятельства. Но мы не делали документальную или псевдодокументальную картину.

— Очевидно, что фильмы по таким темам — тяжёлые для зрителя. Вы опасаетесь, что вас начнут упрекать?
— Если мы говорим о кинематографе как содержательном элементе, о виде искусства, то, мне кажется, всегда такого рода кино касается сложных проблем, болевых точек в человеке… Если же мы говорим про развлечения, то это картина не для такого кинотеатрального проката. Это вопрос памяти. Во всём мире, так или иначе, снято много картин, посвящённых проблемам международного терроризма… Если мы говорим про конец 90-х и нулевые годы, то эта проблема коснулась практически всех в мире. Просто у нас почему-то есть определённое табу на такого рода темы. Важно начать этот разговор.
— Именно поэтому мне важно понять, как вы готовы к тому, что вас будут упрекать за отсутствие буквального осуждения властей, которые допустили массовую гибель людей, за отсутствие анализа причин произошедшего, штурма…
— Меня это ни в коем случае не беспокоит. Да, конечно, всегда найдутся критики. Но это не документальное расследование. Так задача не ставилась. Трагедия «Норд-Оста», наоборот, объединяет людей во всём мире. Объединяет тех, кто живёт после. Истории 17 лет, а действие фильма происходит сейчас. Лента — о том, как мы все эти 17 лет прожили, как эти люди несут посттравматический синдром… Мне кажется, что в таком ключе это универсальная история для разного рода событий.

— А какой реакции зрителя в России хотели бы вы?
— Если человек просто придёт в зал, вспомнит о тех, кто тогда был в заложниках, это будет хорошее поле для внутренней рефлексии на эту тему. Это очень важно для памяти.
— Удивитесь, если близкие погибших вас не поймут, осудят? Пример — история вокруг свежего фильма «Цой» вашего учителя, Алексея Учителя.
— Я не удивлюсь. При подборе материала, когда я собирал разные факты про «Норд-Ост», общался с людьми, делал какие-то для себя интервью, я понял, что разные люди сегодня очень по-разному относятся к тем событиям. Есть вещи, которые люди помнят чётко. Пересказывают слово в слово, как это было. Сам момент захвата, первые часы, первую ночь. А дальше, к третьей ночи, всё это распадается. Люди дальше очень по-разному помнят факты. Кто-то говорит, что чего-то не было, а это было. Я, конечно, понимаю, что люди, пострадавшие от этой трагедии, потерявшие близких, будут следить за абсолютной и документальной правдой. В этом смысле они не будут задумываться, что игровое кино позволяет уходить от каких-то таких вещей. Имея этическую дистанцию с тем материалом, с которым мы работаем, всё равно мы говорим о независимом художественном произведении. Это не фильм-расследование или учебник с ответами на вопросы, кто виноват и что надо было делать. Совершенно другие инструменты для этого нужны. Кино в этом смысле исследует проблему немного шире, как мне кажется. Конечно, будут люди, которые этого просто не поймут.
— В трейлере фильма чиновник настаивает на названии «конференция» для «поминального вечера». Он говорит, что так надо. С ним не спорят. Это про конкретную ситуацию, или вы говорите о других властных «так надо» в контексте той трагедии?
— Я говорю в целом про обобщения. У нас есть целый бюрократический механизм, который не рассматривает человека в индивидуальной среде. Все делят на категории. И любой человек, любое событие, любое мероприятие должно под эту категорию подпадать. В мире чиновника не может быть какого-то оригинального решения.
— Как у вас получился собирательный портрет власти?
— Никак. Мы же не про власть снимали. Не потому, что я пытаюсь этого избежать, а потому, что человеческая трагедия, частная личная история мне гораздо дороже, интереснее. Она для меня имеет гораздо более широкий объём, чем взаимоотношения власти и простого человека.
— Ну вы же не будете спорить, что в России частная история человека очень часто переплетена с решениями властей. Тем более в случае с такой трагедией, как «Норд-Ост».
— Во всём мире любая трагедия такого рода тесно переплетена с решениями властей. Верными или неверными.
— Фильм выходит на фестивальные премьеры сейчас, в канун очередной годовщины еще более страшной трагедии — Беслан. Случайность?
— Случайность. Я бы не сравнивал трагедии. Не искал, так или иначе, параллелей. Для меня важно, что есть человеческая история на фоне событий. Ровно так же фильм пригласили на Венецианский фестиваль, который проходит в эти числа. Это совершенно не связано с другими историческими событиями в эти же даты.
— Ваша история — первая художественная работа на этот счет. Вы как думаете, почему?
— Я не берусь осуждать людей, которые не связывались с такой проблематикой. Разные авторы, продюсеры и кинокомпании ставят перед собой разные задачи. Затем, когда я искал продюсеров для этой картины, я увидел не только ощущение табуированности этой темы, но и отсутствие интереса к ней у продюсеров. Вообще серьёзное и содержательное авторское кино сегодня не очень актуально с точки зрения заработка денег. Прокат таких картин очень сложен. Я не берусь осуждать авторов, которые не уделили этой проблеме должного внимания. Я просто констатирую, что художников, которые думают о нашей общей истории, мало. Ну а почему этим не занимается развлекательный кинематограф, мне кажется, очевидно.
— А самим людям в России чужое горе не до лампочки? Судя по всему, это интереснее иностранцам, в силу их культурного бэкграунда, социальной политики государств и так далее.
— Не считаю так совершенно. Такие трагедии объединяют не какие-то национальные группы или группы внутри одной страны — они объединяют людей по всему миру. Когда случился Беслан, люди во всём мире вышли со свечами памяти и скорби… То же самое было с «Норд-Остом». Мне кажется, что эти события нас связывают всех вместе. При этом на долю россиян действительно в 90-е и позже выпало огромное количество тяжёлых трагедий. У нас уже есть некая генетическая прививка к восприятию горя…
— Может быть, не прививка, а ожоги, шрамы?
— Я думаю, что всё-таки прививка. Если мы рассматриваем разные поколения, людей, которые пережили Вторую мировую войну, поствоенный период и всё остальное, что было с нами с тех пор, то мы переживаем чужое горе иначе, чем маленькая страна на пять миллионов человек. Там смерть любого человека — трагедия, а мы привыкли трагедии измерять количеством погибших.
— Если меньше ста, то траур не объявляем?
— Да… И такие установки ведь тоже с чем-то связаны…

— Минкульт вам уже выдал прокатное удостоверение? Какая реакция на ваш фильм у правопреемников Мединского?
— Мы находимся в стадии оформления документов. Не думаю, что что-то помешает сейчас. Российская премьера у нас 15 сентября на фестивале «Кинотавр». Надеюсь, что к этой дате мы получим прокатное… Фильм не нарушает законодательства, поэтому нет причин, чтобы применять какой-либо запрет.
— У вас же было финансирование от российского государства?
— Нет, не было.
— Когда Петербург увидит «Конференцию»?
— Дату не знаю, но будет специальный показ в рамках фестиваля «Послание к человеку». Для меня это очень важный фестиваль. Когда я ещё занимался документальным кино, я много участвовал в разных его программах.
— Вы видите признаки попыток корректировать память властями? Я видел ваш рассказ, что вы изучали документы по теракту, но сетовали, что многое засекречено.
— Многие вещи связаны с гостайной… Как и с любой другой крупной трагедией в нашей истории. Но я не могу сказать, что я сетую. Я не преследую цели расследования. Мне важна человеческая природа. Что происходит с людьми, которые 17 лет после этого живут. Конечно, меня удручало, что я сам для себя не могу обладать всей полнотой информации. Но это вопрос гостайны. К сожалению, есть информация, которая от нас просто скрыта.
— Назначение на 3 сентября даты окончания Второй мировой, которая закончилась 2 сентября, и тишина в госмедиа про Беслан в этом году — не признак следующего этапа коррекции памяти?
— А я смотрю на людей. Я не увидел, что люди 3 сентября праздновали окончание Второй мировой. Чаще я слышал в разговорах упоминание трагедии Беслана. Они могут куда угодно переносить какие угодно даты, издавать какие угодно законы, — люди сами формируют тот календарь памяти, который им нужен. Мне кажется, что попытки коррекции памяти — бессмысленное занятие.
— Почему, на ваш взгляд, именно трагедии русской жизни так ценятся в мире? Триумфаторы главных мировых кинофестивалей — вы да Андрей Звягинцев. Права группа «Кровосток»: «Немцы делают вещи, а мы [фигачим] трагизм»?
— Я думаю, что это непонимание процесса авторского кино, как и любого современного искусства сегодня. Во всём мире разные художники и разные режиссёры рассматривают довольно крупные исторические события, трагедии своей истории. Мы видим те же немецкие картины, которые показываются на разных фестивалях мира. Они точно так же получают призы. На самом деле любая национальная кинематография исследует свои болевые точки… Не думаю, что мы являемся в этом смысле экспортёром боли. Не мы являемся этим экспортёром.
— Но драма и трагедия вызывает больший интерес?
— Не всегда. Есть масса примеров в авторском кино, когда произведения не связаны с болью и трагедиями. Это вопрос того, что просто развлекательное кино никак не попадает в эту среду — среду авторского кино. Нет никакого взаимодействия с культурным полем. Здесь просто не нужно смешивать развлекательное кино и серьёзное авторское кино. Авторское кино гораздо чаще связано со сложными темами.
— Что говорит ваш личный опыт, как меняется в этом смысле российский зритель? Тяга к меньшему содержанию или, наоборот, большая осознанность?
— У меня ощущение, что в этом смысле у нас происходит в кино ровно всё-то же самое, что и с другим искусством. С той же литературой, например. Сложно ребёнка заставлять читать то, что он не понимает совершенно. Сложно навязывать женщине, которая в метро читает какой-то лёгкий роман или детектив, серьёзную литературу. Но есть определённое число образованных людей. Людей, которым просто интересен кинематограф. Но оценить динамику движения сознания зрителя я не могу. Я не социолог. С точки зрения своего опыта, а у меня очень разные картины, я тоже не могу судить. Ведь каждый раз картины разные.

— В прокате ваш фильм в России покажут везде? От Пскова до Сахалина, от Мурманска до Грозного?
— Вообще время очень сложное. Что дальше будет с кинопрокатом, непонятно. Мы уже знаем, что половина кинотеатров вообще не откроется. Мы видим падение сборов. Мы не понимаем пока поведение дистрибьюторов, которые будут заниматься нашей картиной. Хотелось бы, чтобы не было исключений, и люди на всей территории РФ увидели нашу картину, причем именно в кинозале: в зале происходит значительная часть действия фильма. Так что важно его смотреть именно в зале.
— В том числе на Северном Кавказе?
— Я очень надеюсь на это.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру».