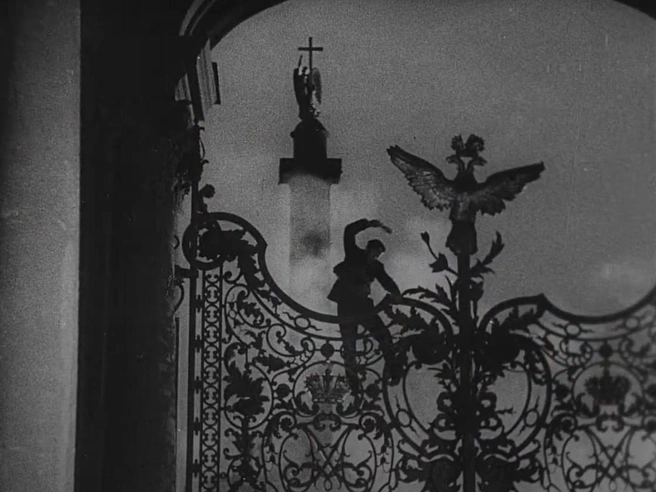
«Февральская революция» 2021 года отменяется. Штабы Навального не будут проводить митинги до весны. «Если проводить каждую неделю, численность митингов будет уменьшаться, все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске. Волну протеста надо заканчивать на высокой точке. Если уйдем на спад — это всех расстроит», — заявил один из ближайших соратников Алексея Навального Леонид Волков.
И такое случалось в истории «революций», рассказал «Фонтанке» ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Колоницкий. Профессор Европейского университета, который специализируется на истории столетней давности, сумел найти схожие моменты событий зимы 1917 года с нынешними процессами, но только в риторике, а не в действиях.

— Борис Иванович, когда я попросил вас поговорить про исторические параллели процессов, которые в этом сезоне вернулись или впервые случились на наших улицах, вы сказали, что вас уже 20 лет после каждой акции просят сравнить её с февралём 1917 года. В 2021 году сколько уже было таких попыток найти общее с прошлым?
— Бывали. Но сам вопрос характеризует состояние общества, когда любой политический кризис, большой или маленький, сравнивается с революцией 1917 года. Это неправильно.
— Может, просто больше ничего общество и не знает. Не с чем сравнивать. Еще страхи важны: многие помнят, чем кончились те события.
— Существует распространенное представление, что все знают о 1917 годе. Что-то про Зимний дворец, Смольный, Распутина, Николая Второго, «Аврору», ленинский шалаш и еще про что-нибудь. Люди имеют очень сильное мнение по поводу 1917 года и, как правило, неверное.
— Вот поэтому и интересно. Если искать нечто схожее, то где и в чем?
— Я бы говорил о некоей схожей риторике. Например, Александр Федорович Керенский накануне Февральской революции назвал режим оккупационным. Это буквально воспроизводится и сейчас. Одна сторона воспринимает другую как оккупирующую города страны. А другая, власть, рассматривает оппозиционное движение как что-то совершенно инородное и манипулируемое заговорами. В данном случае это совершенно ситуация кануна 1917 года, с разницей, что накануне февраля 1917 года и Керенский, и многие люди на разных этажах, включая тех, кто обладал репутацией экспертов и представителей политической элиты страны, важные чиновники, искренне считали, что императорская семья — предатели родины, которые тоже манипулируются врагами. Упрощая: куча людей искренне верили, что императрица — немецкая шпионка, агент влияния. В этом частичном совпадении есть опасность. Например, кто мог предсказать штурм Капитолия в США? Я не помню, чтобы об этом говорили. Но, реконструируя эти события, можно сказать, что в США уже несколько лет существует риторика межпартийного конфликта, некоторые называют это словесной гражданской войной. Такое положение является самостоятельным фактором, влияющим на протекание кризиса.
— Но у нас про агентов Запада, засевших в Кремле, коммунисты говорят всю постсоветскую историю.
— Коммунисты, по-моему, сейчас ничего такого не говорят. Может быть, они указывают на каких-то людей в окружении президента, но не на самых влиятельных. Но чтобы кто-то сказал, что МВД или Росгвардия управляются иностранными агентами, это вряд ли. В 1990-е годы разные представители оппозиции говорили о сильном иностранном влиянии. А сейчас ситуация иная. Скорее власть обвиняет оппозицию в том, что она манипулируема Западом. И вот тут-то как раз некоторая аналогия есть. Потому что Февральскую революцию тоже некоторые объясняли так, что она была совершена либо агентами Германии, либо Англии и т.д. Такая манипулятивная интерпретация революции.
— Мы сейчас тоже слышим по телевидению, в качестве кого система воспринимает Навального и его сторонников.
— Это не проходит бесследно для режима. Если сильно педалировать этот конспирологический дискурс, который очень сильно ложится на наше детективизированное сознание, он бумерангом может прилететь и во власть, и уже прилетает.
— Возвращение Навального можно назвать условным «выстрелом Авроры»? В том стереотипном смысле, который есть в обществе.
— Вскрытие покажет. Аналога штурма Зимнего я пока не наблюдал. Но, по-моему, вы идете по ложному пути простых параллелей.
— Направьте в сложную параллель, Борис Иванович.
— В 1917 году я таких параллелей не вижу. Там была огромная империя, растерзанная войной, которая решала задачи военной мобилизации, и из-за этого надорвался тыл. Существенно ухудшилось внутреннее снабжение, усилились этнические противоречия, была депортация сотен тысяч людей в ходе войны. Ничего подобного мы сейчас не наблюдаем.
— Но, судя по всему, никто не ждал, что именно сейчас люди в России начнут выходить на улицы и перекрывать их. Фактор внезапности как историческая параллель интересен?
— А я вижу ситуацию совсем наоборот. Власть уже несколько лет готовится к силовой конфронтации, к внутреннему кризису, усиливая Росгвардию, тренируя, отлаживая какие-то пропагандистские варианты манипулирования. Я в реакции властей ничего неожиданного не вижу.
— Интересна реакция общества.
— Это скорее не историческая аналогия, а социологический и антропологический анализ. Исторически таких параллелей слишком много. Это довольно стандартная процедура политической мобилизации. Довольно типичная для России мобилизация вокруг политика, который рассматривается как альтернативный сильный лидер. Я не вижу ничего нетипичного в сочетании антиавторитарной риторики, которая накладывается на авторитарную патриархальную политическую культуру, требующую преодоления ситуации за счет укрепления сильного лидера. Это наиболее частый путь. Даже в некоторых экспертных оценках мы видим проявление специфического политического сознания. Ну например: «Мы должны бороться с авторитарным режимом за демократию». Но бороться за демократию — это несколько шире, чем бороться с авторитарным режимом. Свержение одного авторитарного режима очень часто приводит к установлению другого авторитарного режима. Потому что демократия ведется путем выстраивания демократических структур. А у нас мы видим, что иногда структуры, декларирующие антиавторитарный подход, являются авторитарными по принципам своей организации.
— Например? Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду веру в лидера, вождизм. Как в государственной системе, так и в так называемой системной оппозиции, где все политические лидеры находятся более 20 лет. Путин там 20 лет, а лидеры каких-то парламентских фракций еще более долго. Во внепарламентской оппозиции мы тоже видим авторитаризм. Некоторые говорят о развитии гражданского общества как о какой-то панацее. Исторически это совершенно неверно. Мы знаем исторические примеры, когда гражданское общество может использоваться для создания авторитарных или даже тоталитарных режимов.
— Вера в вождя за 100 лет разве не уменьшилась в России?
— Она усилилась. Представления о сильном руководстве очень сильны в нашем обществе. Я лично, не как эксперт, не могу не сравнивать свою жизнь с тем, как жили наши предки в 1917 году. Я вижу некоторую динамику к лучшему. Мы образованнее наших предков. Хотя сейчас, с ослаблением культуры чтения, начинаем деградировать и сдавать некоторые позиции. Я думаю, что советское общество, да, с прочищенными мозгами, но было более образованное и начитанное, чем нынешнее. И мы не столь жестки и не столь жестоки, как наши предки. Тогда путь от мысли до курка был очень коротким. Переход к стадии политического насилия был тогда очень быстрым, причем с обеих сторон. Но в некотором плане мы все же деградировали в сравнении с нашими предками, жившими в 1917 году. У них была гораздо выше культура самоорганизации, самоструктурирования. У нас же очень важным элементом культуры является наивный индивидуализм. Как в Советском Союзе изображали капитализм как царство жестокого индивидуализма, так у нас в 1990-е годы это и распространялось, по каким-то карикатурным образам. Мы строили капитализм отчасти по «Крокодилу». И даже по сравнению с поздним советским обществом способность к самоорганизации людей в целом ухудшилась. А если она и идет, то это не выстраивание республик, а выстраивание авторитарных маленьких режимчиков, окрашенных разными идеологиями.
— Например, в Европе, где многие исторические процессы складывались иначе... Там больше читают книжек? Складывается ощущение, что с самоорганизацией там много лучше.
— У них сейчас, к сожалению, тоже читают меньше книжек. Что проявляется в нарастании популизма, агрессии, и это может рассматриваться как угроза демократии, иногда это так и ощущается. Для этого есть какие-то социальные вещи: де-индустриализация, потеря статуса, демографические проблемы, появление новых религиозных этнических меньшинств. Но вместе с тем падение образования тоже чувствуется. Демократия хорошо работала, когда люди читали газеты. Новые средства коммуникации — это хороший инструмент политической мобилизации, это бесспорно. Но как инструмент просвещения и критического анализа... я не уверен.
— Про Европу я не припомню новостей, чтобы не хватило камер для задержанных. И там ещё есть суды. В этом смысле нынешние события тоже ничем не интересны исторически? Бардак — норма?
— Бардак — это не та категория, с помощью которой мы сможем что-то рационально анализировать. Если же мы говорим про нарушения правосудия, то есть разные фазы, разные стадии. Мы знаем массу ситуаций и более жёстких. И мы знаем, что и более жёсткие вещи не работают.
— В смысле в конечном итоге не сдерживают?
— Можно же перекрутить гайки. Можно пар не выпускать. И взорвётся. Разнесёт всё.
— Вы согласны, что «болевой порог», когда люди уже не могут не выходить, у современной молодёжи ниже, чем у предыдущего поколения? Старики сегодня удивляются: «Чего дёргаетесь, раньше было хуже».
— Я очень опасаюсь умилительного отношения к молодому поколению. В истории это неоднократно бывало очень опасным. «Ну мы-то старики, ладно, а вот молодёжь, на неё вся надежда». Симфония политических преобразований требует разных инструментов и действия разных поколений с разным опытом и разным мастерством. Одна эта молодёжь ни черта не сделает. Я отдаю уважение энтузиазму и самопожертвованию многих людей. Но для важной политической победы такой лёгкой кавалерии недостаточно. Опыт этому учит. А вопрос о рациональном анализе ситуации, о способности молодого поколения к самоорганизации, к структурированию демократическому, — это сильный вопрос. Конечно, я знаю нынешнюю молодёжь, знаю своих аспирантов, магистрантов. Не знаю, насколько это репрезентативно. Однако то, что я вижу, не даёт мне уверенности, что они лучше сорганизованы, чем поколение 1990-х или раньше.
— Но я несколько про другое спрашиваю. То, что нас с вами могло не возмущать, сегодняшних молодых возмущает вплоть до действия. Есть ли в этом смысле перемены в историческом срезе?
— Меняется ли этот болевой порог, это вскрытие покажет. На основании нескольких демонстраций мы эти выводы научно делать просто не можем. Это очень долгая игра. Для политических преобразований требуется определённое развитие политической культуры. Это дело не недель и не месяцев. Это очень серьёзная работа. У нас же, когда никто не мешал, ни режим, ни кто-то еще, были упущены десятилетия гражданского образования молодёжи. Таким вещам, как самоорганизация, можно обучать. Я участвовал в различных административных совещаниях и здесь, и в других странах. Надо видеть, как там проводятся совещания. Как люди обсуждают проблему. За какое время, какое количество вопросов и как обсуждается. А можно всё обсудить быстро. Пришёл наш начальник и сказал: «Делайте так». Вот российский стиль. И вот отношение к таким вещам является объединяющим моментом для очень разных по идеологии сил. Это может быть сильнее всего остального. Вот такая «геология».
— Чуткость власти к народу тогда и сегодня сильно разнится? Способность слышать и реагировать.
— Мне кажется, что власть очень разная. Николай II, безусловно, был очень религиозным человеком. Он был «помазанник». Так себя и ощущал. Хотя иногда это было для него дискомфортно. А нынешняя власть — это такие функционалы, прагматики, которые готовы взять любую идеологию. Для них это не вопрос больших личных убеждений, а вопрос прагматики. Если смотреть, как президент Путин относится к ключевым фигурам изучаемой мной эпохи, то я вижу его отрицательное отношение к Ленину, как к революционеру. Не уверен, но, на мой взгляд, он несколько свысока смотрит на Николая II. Может быть, даже презрительно. «Слабак, который не удержал страну». Что общего? Преувеличено значение фактора силы. Казалось бы, достаточно наладить работу спецслужб, создать войска специальные, и это способ победить. В Российской империи были отличные спецслужбы. Технически. Они всё знали про оппозиционные организации. Почти везде были информаторы. Однако революцию это не предотвратило. На каком-то этапе масштаб кризиса оказался таким, что силовыми инструментами его уже стало невозможно подавить. Мне кажется, что есть недооценка задач политического маневрирования, диалога. Создание реально работающих коалиций, это очень важная задача. Но это характерно не только для России 1917 года или нынешней. Это частая практика, когда люди, которые привыкли к таким инструментам, полагают, что другие не важны. Однако политика, особенно в моменты кризиса, — это такая сложная симфония, где на одних ударных не сыграешь.
— Смелость улицы тогда и сегодня чем отличается? Навряд ли сто лет назад было круто скандировать в лицо казачку #МыБезОружия?
— Скандировать не скандировали тогда… Во-первых, казачки уже были не те к 1917 году. Мои коллеги зафиксировали, например, стычки казаков с полицией ещё накануне февраля 1917 года. Согласитесь, что это серьёзно. Ничего похожего сегодня нет. Силовые ведомства достаточно едины… Второй момент. На самом деле что-то такое всё же было... Если бы в критические дни 23 февраля по старому стилю (8 марта по новому стилю) в казаков бы полетели бутылки или гранаты, или стали бы по ним стрелять, ведь какое-то количество стволов всегда можно достать, то естественно было бы вовлечение в конфронтацию. Но они встретились с толпой, которую они не очень хотели разгонять. А толпа была заинтересована скорее, чтобы относиться к ним хорошо. Мирно. Одни обозначали действие. Другие — что действовали. Была такая фаза. Но есть ещё один очень важный момент, который объединяет очень разные силы и представления. Проблемой для России имперской было то, что это было полицейское государство с недостаточным количеством полиции. Полиция стоит дорого. Послать армию дешевле. И поэтому мы в России стали свидетелями того, что не только казаков, но и регулярные войска, пехоту и кавалерию использовали для подавления внутренних беспорядков. А это, в принципе, очень опасная ситуация. Это комплекс таких маленьких гражданских войн. У меня один раз был очень интересный разговор с одним английским полицейским начальником. По нашему генералом. Он приехал сюда. Мой коллега британский историк привёз группу. Рассказывали им про историю Санкт-Петербурга, в частности про историю революции. И потом мы его спросили: «Вы, как профессионал, как бы посмотрели на это?» И он сказал, что, по всей видимости, ситуация зашла так далеко, что полиция уже не могла что-то сделать. Во-вторых он сказал, что это очень опасное сочетание бросать на решение таких проблем одновременно и армию, и полицию. Это разные животные, которые работают по разным механизмам. Они натренированы на решение очень разных задач. Полиция, если хорошо подготовлена, может работать не только силовыми методами, но и методами на убеждение, на манипулирование направлениями и так далее. На мой взгляд, представление, что любой кризис можно разрубить жёстко-жёстко, это в долгосрочной перспективе очень опасно. Очень.
— Вожди сейчас передумали выводить людей. Люди в недоумении. Обижаются некоторые. Разменяли их на Байдена и прочих давителей извне. Давление извне руками потенциальных противников — это ли не предательство в массовом сознании? На чужеземную помощь и 100 лет назад рассчитывали некоторые патриоты.
— Наши человеки разные. И опыт разный. Думаю, что реакция на это будет разной. Ставка на то, что «Запад нам поможет», разве делает протест менее легитимным?
— А разве нет? Людям сказали: «Пока больше не нужны. До новых встреч».
— Это серьёзная проблема. Но не уверен, что могу сказать что-то интересное тут. Ведь выводить людей под репрессии без ясной политической перспективы, без шансов на успех тоже большая политическая ответственность. Не все могут её принять. Вообще в истории это очень частая ситуация. Была какая-то такая повестка на короткую дистанцию, которая подкреплялась сильными политическими эмоциями. Но на эмоциях, в том числе на энтузиазме и негодовании, долго не протянешь. Это ресурс короткого применения. Максимум месяцы. Если нет организационных форм, которые улавливают настроения, преобразуют их в политические действия, в том числе в политическое строительство, то всё. И пока я таких инструментов улавливания политических этих эмоций не вижу. Но я не специалист по современности. Мои рассуждения тут дилетантские.
— Тем не менее точка зрения историка важна. Дальше пропаганде проще опираться на исторические параллели в борьбе с оппозицией? «Они присягнули врагам».
— Эти вещи исторически знакомы всем. Со времён Пелопоннесской войны, когда одни поддерживали аристократов, а другие так называемых демократов. Всегда используется риторика внешней опасности, а внутренний враг маркируется как внешний или как оружие врага внешнего. Посмотрите вокруг. И ведь образ русской угрозы тоже используется в политической риторике в той же Америке. В какой мере? Явно способности России вмешиваться во внутренние дела США преувеличены, однако это работает. Тоже политическая мобилизация.
— Как меняется роль народа в историческом процессе? Она вообще ещё важна?
— Зависит от готовности к самоорганизации. Это ключевой фактор. Люди преобразуются из подданных в граждан не потому, что они свергают тирана, диктатора или монарха. Люди становятся гражданами, когда они создают правила игры, организации, которые блокируют создание нового тирана. Отсутствие веры в сильного вождя — это предпосылка к созданию гражданского общества. Демократического гражданского общества. Как мне кажется, только это может повлечь демократические преобразования. К сожалению, смелости, идеализма здесь недостаточно.
— Все бежим в библиотеки?
— Вы были когда-нибудь на собрании товарищества собственников жилья? А на собрании садового товарищества? Больше не хочется? Так почему если 20 — 30 человек не могут вместе сорганизоваться и решить иногда простейший вопрос, почему вы думаете, что 150 миллионов смогут организоваться и решить вопрос?
— А это значит, что мы в тупике. Признаем это?
— Нет. Мы не в тупике. Давайте лучше признаем, что, 20 — 30 лет культивируя псевдодемократический индивидуализм, мы не занимались воспитанием гражданской культуры. Это серьёзный культурный вопрос. Я по характеру и образованию педагог. Я верю в образование и просвещение. Но некоторые, конечно же, в тупике. Знаменитый и неплохой историк Ричард Пайпс считал, что Россия запрограммирована то ли природой, то ли культурой всё время сползать в авторитарную колею. Я же в это не верю. Я верю в свободу человеческой воли, в шанс. И в самоорганизацию.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»















