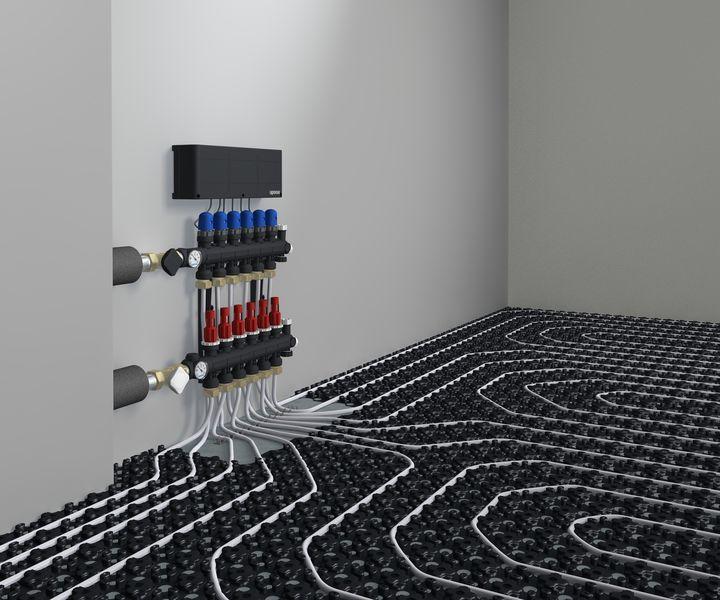28 февраля российский режиссер Валерий Фокин отмечает 75-летие.
Без малого 20 лет Фокин живет и работает в Петербурге, осуществляя художественное руководство Александринским театром, который с января 2020 года получил статус Национального драматического театра России. Сказать, что театральный Петербург с появления в нем Фокина изменился — ничего не сказать: он обрел новую точку отсчета.
Фокина в Петербурге, скажем прямо, не ждали. Вообще Петербург никого и никогда не ждет, не встречает с распростертыми объятиями, не привечает. Больше вытесняет несоответствующих негласному регламенту, не соблюдающих местную иерархию и неписанные каноны. А Фокин к тому моменту, к 2002 году (официальное назначение на пост худрука случилось чуть позже, в 2003), был уже фигурой, как бы это поточнее выразиться, не просто влиятельной и не просто авторитетной в театральной среде, он был крупным игроком, способным не только выполнить некую миссию государственного значения, но сам ее придумать, обставить, сочинить весь ход событий до мельчайших подробностей — ровно так, как он ставит спектакли.
Так что ждал или не ждал театральный Петербург Фокина — было абсолютно неважно. В 2002 году он ехал сюда с целью грандиозной, равно политической и эстетической — подготовить праздник, который никогда прежде в стране не отмечался. А именно — 250-летие существования в России государственного театра, то есть театра, осененного высочайшим покровительством: первый в истории указ о создании русского профессионального театра был подписан Елизаветой Петровной 30 августа 1756 года, и именно эта труппа, удостоившаяся внимания дочери Петра I, передавая эстафету от поколения к поколению, вошла в роскошное здание Императорского Александринского театра, шедевра зодчего Росси, открывшегося в 1832 году.
Кто такой был на момент 2002 Валерий Фокин?
Ведущий режиссер страны, поставивший более полусотни резонансных спектаклей в «Современнике», Театре им. Ермоловой (которым руководил с 1985 по 1991 год), «Сатириконе», а также в театрах Польши, Германии, Швейцарии, Венгрии, Японии, Финляндии. При этом Фокин-режиссер уже на тот момент мастерски умел две вещи: остро и при этом с историческим бэкграундом ставить современные тексты и дерзко (прямо-таки по-мейерхольдовски дерзко) интерпретировать классику.
В первом же «современниковском» спектакле Фокина «Валентин и Валентина» (1971) по пьесе Рощина рядом с Фокиным оказался большой художник Давид Боровский, который придумал железные кровати, как одну из доминант сценографии, и не впрямую, а тонким намеком, тенью в спектакле возникло лагерное прошлое страны, которое в 70-е снова обретало актуальность. А спустя 12 лет на этой же сцене появился первый за советский период театральной истории Хлестаков-уголовник в фокинском «Ревизоре».
Жесткая концептуальность режиссерских ходов не мешала спектаклям Фокина оставаться человечными, и одно за другим в его спектаклях происходили актерские открытия. Неслучайно Константин Райкин, Авангард Леонтьев, Марина Неелова, Евгений Миронов и сейчас готовы начать с ним работать по первому зову. Мало кто помнит/знает, что «Любовь и голуби» с Ниной Дорошиной, которую в 1982 году увидел в «Современнике» Владимир Меньшов и задумал свой кинохит, тоже поставил Валерий Фокин.
В новое время, а именно в 1991 году, Фокин одним из первых создал собственную структуру — знаменитый теперь Центр им. Мейерхольда (ЦИМ) и получил госпремию за сохранение, изучение и развитие творческого наследия Вс. Мейерхольда. При этом с 1988 года Валерий Фокин — председатель Комиссии по творческому наследию Вс. Э. Мейерхольда, по инициативе которой и был создан ЦИМ. Параллельно в центре Москвы строилась самая современная по техоснащению экспериментальная театральная площадка в стране — с плунжерной системой и трансформирующимся залом. Здание ЦИМ открылось 12 февраля 2001 года. Фокин полностью курировал строительство и обнаружил исключительные для одаренного режиссера менеджерские способности. Недоброжелатели даже называли его «прорабом», но Фокин не оскорблялся.
Чем на тот момент была Александринка?
Старинный многоярусный театр с великой историей и весьма жалким настоящим. В творческом плане театр был подорван многолетним бессистемным руководством: с 1975 по 1991 год он находился в руках звездного артиста Игоря Горбачева, которому подобная работа была явно противопоказана, с 1991 года до прихода Фокина пребывал в ведении директора Георгия Сащенко — и тут художественные прорывы время от времени случались (к примеру, три спектакля Анатолия Праудина), но выглядели случайностью и быстро исчезали из репертуара: безраздельное директорское руководство редко способствует развитию какого-либо театра, в абсолютном большинстве случаев это бедствие.
К творческим проблемам плюсовались строительные: облупляющаяся позолота и потертый бархат в большом зале напоминали о том, что последний раз капитальный ремонт здания проводился более века назад.
Они сошлись
На 250-летие государственной театральной политики в России (название праздника из уст самого Фокина в 2003 звучит именно так, фундаментально) ждали самого Путина, который к тому моменту был начинающим президентом — занимал главный госпост в стране всего лишь четыре года. И за три года Александринка натурально воскресла из пепла и превратилась в ослепительной красоты театральный дворец. Вообще реставрация/реконструкция этого Богом забытого театра — отдельная и мощная тема, которая достойна нескольких томов глянцевых изданий и ряда докторских диссертаций. И это первый экзамен, который Валерий Фокин сдал людям, поверившим в его петербургскую комбинацию, не просто на отлично, но с особым блеском.
Вопреки общепринятой практике, когда руководство федеральных театров принципиально устраняется от контроля над ремонтными работами, а всю ответственность берет на себя Минкульт, Фокин и его соратники, прежде всего, немедленно приглашенный заместителем худрука историк российского театра Александр Чепуров, отслеживали и курировали буквально каждое движение строительного скребка.
И количество открытий зашкаливало. К примеру, на потолке «предбанника» Царской ложи реставраторы обнаружили остатки росписи двух цветов — голубого и золотого. И Чепуров тут же разгадал загадку: любимой оперой императрицы Александрины, в честь которой театр поименован, была «Волшебная флейта», и сохранились свидетельства о том, что театральный занавес в спектакле, который императрица смотрела не единожды, выглядел именно так — голубой с золотыми звездами. И так в настоящий момент снова выглядит потолок в комнате перед Царской ложей. Самое замечательное, что одинаково пристальное внимание во время реконструкции уделялось любой детали — от росписей до воздуходувных каналов, спроектированных настолько совершенно, что Александринка и сейчас может работать без искусственной вентиляции.
Вместе с Чепуровым Фокин планирует и открывает на уровне четверного яруса уникальный Музей русской драмы, который тут же начинают сравнивать с музеем Comédie-Française. Музей Александринки — обширнее и содержательнее, а зал Мейерхольда работает фактически как машина времени и дает исчерпывающее представление о легендарном «Маскараде», чей траурный занавес в последнем акте «закрылся за императорской Россией». Музей открыт перед каждым спектаклем, и его посещение бесплатно для зрителей.
Три счастливые карты
Отношение к Фокину-художнику, как к «варягу», без приглашения явившемуся володеть петербургским театром, развеялось в сообществе довольно быстро, и даже до фантастической реконструкции. После того, как новый худрук Александринки предъявил три козыря, по своей сути совершенно петербургских. И вряд ли для определения этих счастливых карт Фокину понадобились подсказчики. Ну, разве что дух самого города, с момента основания стремящегося преодолеть свои болотные корни.
Первый козырь — это, безусловно, художественная программа, в которой сошлось два совершенно петербургских тренда: пиетет перед традицией (этот город в самом деле с особым трепетом относится к своему столичному прошлому) и имя Мейерхольда, которое в театральном пантеоне Петербурга значится под номером один, и это логично: новатор, мученик, гений (кстати, когда Праудин поставил в Александринке «Месье Жоржа» по «Герою нашего времени» и «Горе уму» по Грибоедову, его стали сравнивать именно с Мейерхольдом). Программа Фокина называлась «Новая жизнь традиции», и предполагала налаживать связь времен именно через богатейшее наследие Мейерхольда, до того осмысленное по большей части на бумаге.
Козырь второй — это выпуск самим Фокиным «Ревизора» в 2002 году, то есть, до закрытия театра на капремонт. Это был спектакль-оммаж Мастеру, в котором мейерхольдовские приемы и мизансцены из спектакля 1926 года (трактир с лестницей посередине, «чиновничья сороконожка», финальная «немая сцена» на лестнице) были вплетены в ткань спектакля, сотканную из живых нитей-нервов нынешней реальности. И самым напряженным таким нервом был, конечно, главный герой — Хлестаков в исполнении Алексея Девотченко.
Тогда, рассуждая о Хлестакове Мейерхольда — Эрасте Гарине, Фокин вдруг высказал предположение, что в мейерхольдовском спектакле, который Фокину едва ли не являлся в мистических видениях, ключевой трагической темой было предчувствие «грядущего хама», циничного и лишенного каких-либо рефлексий, предощущение тотальной бесовщины сталинских репрессий. Сам Фокин, призывая в Хлестаковы Девотченко, а в городничии — уютного, домашнего, приятного во всех отношениях Сергея Паршина, ставит «Ревизора» о том, что вот эти старорежимные чиновники с их грешками несопоставимо лучше бандитов во власти.
Хлестакова-Девотченко, с необыкновенной легкостью не только врущего, но и шагающего по головам (в спектакле Фокина он буквально наступал на упавшего чиновника), действительно элементарно было представить на любой позиции хоть в исполнительной власти, хоть в законодательной. И только теперь стало до конца понятно, насколько пророческим был «Ревизор» Фокина, лишь недавно снятый с репертуара. И было еще одно беспроигрышное «сильное звено» в этом художественном пасьянсе — композитор Леонид Десятников, безусловно петербургский человек, живой классик, чьи гениальные без преувеличения хоры уберегли спектакль от «чернушного» контекста, превратили его в вечную русскую страшную сказку о чертовне, которым всегда есть за что зацепить любого из нас. Сюжет, кстати, в том числе и вполне гоголевский.

«Ревизор» Фокина буквально в день выхода изменил петербургскую театральную оптику. Таких четких высококультурных спектаклей в городе не выходило давно. Точнее, они выходили в единственном театре — в МДТ Льва Додина. Но Додин в городе всегда существовал особняком, как великий, исключительный, недосягаемый Мастер, работающий со своими учениками и ведущий с ними многолетний диалог на птичьем языке. Ситуация Фокина и его задачи были принципиально иными. Ему важно было показать, как можно за полгода собрать растренированную труппу «в единый кулак», заразить ее общей художественной идеей и выдать очевидный всем творческий результат. Этот «Ревизор» поднял планку качественного спектакля на уровень, который для абсолютного большинства городских театров оказался недосягаемым. «Ревизор» ожидаемо получил Гран-при «Золотой Маски» 2003 года и отправился в большой гастрольный тур на время ремонта исторической сцены.
Наконец, третий козырь, снайперски определенный Фокиным — приглашение им в театр, казалось бы, прямого конкурента — Андрея Могучего, который тогда в 2005 году, то есть в свои 44 года, по-прежнему оставался для театралов «молодым режиссером-экспериментатором». Первым спектаклем Могучего в Александринке стала вторая версия «Петербурга» по роману Белого (первую Могучий ставил в 1991 и играл ее в самых разных пространствах — это был один из безусловных хитов его знаменитого Формального театра) — и этот выбор материала тоже был расценен как ритуальный оммаж Фокина городу. Спектакль шел в закрытом дворе Инженерного замка, причем и публика сидела, и актеры играли в небольших кабинках с бархатным нутром. Александринка словно бы решила сыграть в демократию, выйти в люди, и надо сказать, что именно Могучий как штатный режиссер до самого своего ухода в БДТ в 2013 году осуществлял эту общедоступную линию, применяя на императорской сцене приемы уличного театра и нового цирка, и наравне с Фокиным получая «Золотые Маски».
Ну и, конечно, тут стоит сказать, что не проявись Могучий как художник большого стиля в стенах Александринки, не было бы феерического возрождения БДТ под его руководством, и не работала бы сейчас в городе крепкая тройка федеральных драматических театров — Александринка, МДТ, БДТ, которая простым своим существованием на определенном художественном уровне прямо вопиет о необходимости радикальной реформы в системе руководства театрами городского подчинения. Но это тема совсем другой статьи.
Город принял
Итак, Петербург быстро осознал и принял Фокина, словно бы узнав и признав в нем своего человека. Принял именно город, не театральный «террариум единомышленников» — те, кажется, не приняли до сих пор, разве что в последнее время стали «делать лицо»: все же не тот Фокин человек, с которым стоит ссориться, невыгодно это. А вот город очевидно разглядел в Фокине художника, готового кропотливо и вдумчиво исследовать метафизику его прекрасного и капризного мистического пространства, этой уникальной локации со вздорным характером. И надо отдать должное Фокину — он и в самом деле умудрился стать абсолютным петербуржцем и создать Александринке специфически петербургский репертуар, призвав в союзники не только Мейерхольда, но и Лермонтова, и Гоголя, и Достоевского, и Толстого, которых тоже в свое время закрутил питерский морок, заставив играть с ним в роковые игры.
Петербург стал режиссерской сверхтемой худрука Александринки, диктуя репертуарные и визуальные решения. И наблюдать за лихими виражами и кульбитами этой темы в спектаклях режиссера Фокина невероятно интересно. В упомянутом «Ревизоре» Петербург появился миражом, накрывшим уездный городок, спустившимися с колосников колоннами, которые городничий, его жена и дочь в финале пытаются удержать, вцепляясь в них мертвой хваткой, но тщетно. А уже в «Двойнике» этот таинственный, демонический город оказывался главным действующим лицом — лабиринтом кривых зеркал, сводящим героя с ума. Петербург как город-игрок, безжалостный к «маленьким людям», Фокину явно импонирует, так что спектакли его выходят жесткими и несентиментальными. К ним порой трудно подключиться эмоционально, но разгадывать их как интеллектуальные шарады — процесс прямо-таки захватывающий.
И не случайно поставив «Живой труп» с Протасовым — Сергеем Паршиным, артистом чересчур человечного толка, Фокин спустя девять лет, в 2015 году, вновь возвращается к толстовскому сюжету и отдает роль самоубийцы Федора Протасова Петру Семаку, к тому времени перешедшему в Александринку. И плюс к этому меняет название спектакля. Фокину важно показать, что выбор Протасова — не уход от бессилия, а уход от силы, рифмующийся с теорией Кириллова в «Бесах» Достоевского о самоубийстве, как о рождении человекобога. Тут надо сказать, что сценография Александра Боровского, постоянного соавтора Валерия Фокина — все эти лестницы, перила, решетки — непрерывно преследующий человека комплекс ограничений, упрощений, необходимых к соблюдению правил — это тоже образ Петербурга, узнаваемый каждым, кто хоть раз побывал в историческом центре. И никого, кроме Протасова, не смущают семейные, интимные разговоры на лестничной клетке. Лишь Протасов воспринимает эту несвободу, как реальную клетку, в которой и пребывает от начала и до конца действия, до осуществления рокового «третьего выбора».

Вообще Семак, возникший на сцене Александринки в роли ницшеанского сверхчеловека — это шокирующий фокус Фокина, осуществленный в не менее шокирующей интерпретации «Маскарада» (2014), где главный додинский — читай, психологический актер — возник буквально закованным, точно в чиновничий мундир, в портретную форму артиста Юрия Юрьева — Арбенина из легендарного мейерхольдовского спектакля. Впервые за свою актерскую карьеру Семак вынужден был идти к образу не от себя, а от формы, в том числе и формы произнесения слов, расписанной в прямом смысле слова по нотам. И вот в спектакле «Маскарад. Воспоминания будущего» на сцене ожили экспонаты «Музея русской драмы» с четвертого яруса, которые по замыслу режиссера, выйдя из витрин, остались куклами, и только Семаку-Арбенину удалось осуществить в полной мере ритуал реанимации — возродить образ человека-исполина, на которого шли посмотреть зрители смутного 1917, и который способен был на равных говорить со Смертью и с Создателем, в чьем образе в этом «Маскараде» выступает, разумеется, Мейерхольд. Век нынешний и век минувший в эксперименте Фокина столкнулись в реальном времени, и призрак старого императорского театра и старого города явился из небытия во всем своем сокрушительном величии.
Пожалуй, никогда прежде город Петербург не знал такого подробного и последовательного режиссерского внимания к своему феномену, причем Фокина интересуют самые разные повороты петербургского сюжета — от осмысления Петербурга — города-вампира, города-некрополя, способного высосать все жизненные соки из большого художника, как в ослепительной красоты фантасмагории «Ваш Гоголь» (2011), до исследования подлинной святости в его театральном житии главной питерской святой Ксении Блаженной, «Ксения. История любви» (2009).
Говоря о святости как о явлении, совершенно противоположном аккуратненькой иконописной безмятежности, потребной массовому сознанию, а гораздо больше напоминающем тяжелую психическую болезнь и уродство, Фокин, безусловно, понимал, что вызывает на себя огонь досужих мракобесов. Но в то же время разглядеть в Фокине провокатора решительно невозможно. Скандальная слава его не интересует вовсе, что вызывает к нему отдельное уважение. Разборки с кляузами он всегда готов отдать на откуп театральным юристам, а сам сосредоточиться на честном режиссерском высказывании, которое практически всегда основано на сговоре с актером-протагонистом. Очевидно, есть у Валерия Фокина этот дар режиссерского убеждения, превращающего актера в неистового, отчаянного проводника режиссерской мысли. Без первой исполнительницы роли Ксении Яны Лакобы, равно как и без Ксении второй редакции, 2018 года, Анны Блиновой — без игры этих изумительно самоотверженных актрис на грани фола, Фокину никогда не удалось бы доказать, что ноша святого так тяжела, что ни сознание, ни тело не способны нести ее красиво.

Тут мне, конечно, трудно сделать вид, что я ничего не знаю про обиды актеров на Мастера, про их яростные каминг-ауты в соцсетях, и упаси Бог меня, да и кого угодно, встревать в эти разборки. Но невозможно сбросить со счетов тот факт, что о Дмитрии Лысенкове, как о новом Эрасте Гарине, заговорили после Александринского «Гамлета», а о Лакобе, как о новой Чуриковой — после «Ксении». Не поспоришь и с тем, что ни один театр города не обеспечил столько лауреатов Петербургской премии для молодых «Прорыв» в актерских номинациях, как Александринка. Да и то, что символом фокинской Александринки стал великолепный Николай Мартон, артист безупречной формы и большого петербургского стиля — человек, способный так прочесть «Двенадцать» Блока, что ты до мельчайших деталей разглядишь этот смертельно опасный, затерянный между эпохами ледяной Петербург, пространство чистой трагедии — дает Фокину еще сто очков вперед.
Непресмыкающийся
Совершенно очевидно, что вступать в диалог с Петербургом, как с текучей, непостижимой и мистически-таинственной, несмотря на всю «умышленность» этого города, субстанцией, Фокину гораздо интереснее, чем разбираться с системой. И тем не менее особенно в последнее десятилетие, Фокин не упустил ни единой возможности в нужный момент заявить свою гражданскую позицию, в которой неизменным остается один посыл: ни одна система никогда не будет работать на человека, она по определению антигуманна.
Его «Гамлет» (2010) без всякой мистики, то есть без призраков, но с живыми овчарками на службе госбезопасности и с цитатами из великого театрального сатирика Николая Акимова — емкий (чуть более полутора часов) рассказ о том, что всякая система обязательно имеет в основе пошлый пафос (тексты для среднестатистической до боли узнаваемой инаугурационной речи Клавдия написаны по заказу Фокина драматургом Вадимом Левановым, автором пьесы о Ксении Петербуржской) и непременно дает сбои, а цена этих сбоев всегда человеческие жизни.

Его «Сегодня. 2016» (2016) по повести Кирилла Фокина — сына режиссера, с портретными героями-лидерами ведущих стран мира, история о том, что государственные системы всегда найдут общий язык перед лицом внешней опасности, а человек снова останется не у дел.
Фокинский «Швейк. Возвращение» (2018) — внятный и весьма жесткий антимилитаристский бурлеск.
Ну а «Рождение Сталина» (2019) — байопик, иллюстрирующий ясную идею, тоталитарный лидер — это человек, хорошо натренировавшийся ходить по трупам задолго до вступления на главный государственный пост.
При этом сам Фокин, не как художник, но как театральный деятель, в систему как раз встроен. Но повторим, как игрок, готовый рисковать по-крупному, идти ва-банк.
В Петербурге Фокину удалось многое, практически всё, что не удалось в Москве. Он возглавил главный по статусу театр страны (предварительно сделав его таковым). С учетом опыта строительства ЦИМа, он выстроил еще более современную по своим технических возможностям Новую сцену Александринки. Правда, открытие этой площадки весной 2013 года совпало с уходом Андрея Могучего в БДТ, а найти равновеликую персону для управления этим «космическим кораблем» мудрено, но жизнь на площадке не замирает, и связь между ней и основной сценой тоже налажена. Не самого легкого нрава человеку Валерию Фокину все же удалось со второй попытки в лице Николая Рощина найти главного режиссера, успешно занимающегося повседневными театральными заботами, а заодно обрести в его (Рощина) лице художника своих спектаклей и крепкого режиссера (в том числе большого стиля). При Фокине спектакли в Александринке поставили лучшие режиссеры современности, включая самого неуловимого и несговорчивого из них — Кристиана Люпу, который ни в одном другом российском театре спектаклей не ставил.
Но главное, что у Фокина в его солидном возрасте есть запал — строить театр, искать новые формы, высказываться со сцены о наболевшем. И признавая единственную абсолютную власть надо собой — власть театра, решать проблемы не только вверенного ему театрального организма, но и сообщества в целом. А как решать и какие именно проблемы — читайте в ближайшее время в большом юбилейном интервью Валерия Фокина специально для «Фонтанки».
Жанна Зарецкая
Фото Виктора Сенцова, Екатерины Кравцовой, Владимира Постнова
На сайте Александринского театра открыта онлайн-выставка «Фокин. Начало» — к юбилею режиссера.