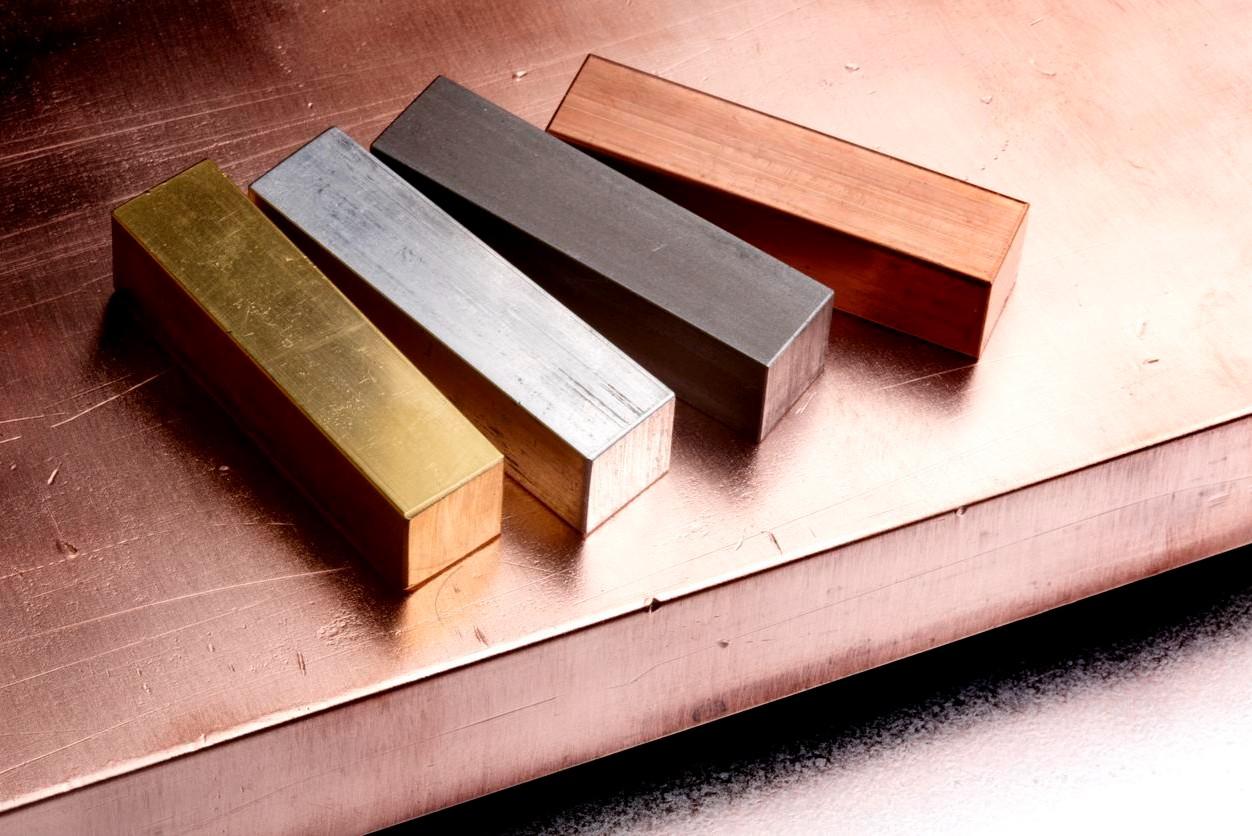Главред «Важных историй» попытался объяснить следователям СК, как устроена независимая журналистика. После допроса по «делу жены Сечина» Роман Анин рассказал «Фонтанке», получилось у него или нет.
Второй допрос Романа Анина, главного редактора издания «Важные истории», был более интересным для следователей СК. Хотя бы потому, что журналист не стал ссылаться на 51-ю статью Конституции, как на ночном допросе в пятницу после внезапного семичасового обыска. Пока Анин проходит свидетелем по делу, возбуждённому по второй части 137-й статьи УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения»). Дело 2016 года по статье в «Новой газете» о тогдашней супруге главы «Роснефти» Игоря Сечина было возобновлено в конце марта 2021 года.
Роман Анин говорит, что не имеет «плана Б» и верит, что работает на историю: «чтобы через 50–100 лет люди судили о событиях не по сюжетам Дмитрия Киселёва, а по расследованиям».
— Роман, после второго допроса ваш статус изменился?
— Нет. Я всё так же в статусе свидетеля.
— После семичасового обыска с участием ФСБ и ночного визита в СК в пятницу, где вы не стали общаться, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, как выглядело общение на этот раз?
— Я давал показания. Допрос длился час. Меня в основном спрашивали две вещи, хотя вопросов было больше. Но в основном следователя очень интересовало, как устроен процесс публикации статей в «Новой газете» (Анин работал в «Новой газете» в 2006–2020 годах. — Прим. ред.). Спрашивали, кто ответственен за это, кто на каждом этапе согласовывает. Я пытался объяснить, что СМИ — это не Следственный комитет, что там нет начальника, который ставит свою финальную визу, а решения принимаются коллегиально на планёрках. Второй вопрос, который их сильно интересовал, — это как я получил доступ к фотографиям Ольги Сечиной в Instagram, учитывая, что у неё закрытый профиль. Я говорил, что Instagram — это публичная социальная сеть. И если пользователь выкладывает фотографии даже в закрытом профиле, то доступ может получить неограниченный круг лиц. Безусловно, если она добровольно публикует снимки в интернете, то не может быть никакого состава преступления в том, что кто-то получил доступ к этим фотографиям. Примерно об этих двух темах мы и говорили сегодня.
— То есть ничего нового про мотивы преследования, кроме того, что интерес силовиков к вам вызван тем самым уголовным делом 2016 года, вы не узнали?
— Все вопросы задавались в рамках именно этого дела. Мне обвинения пока не предъявляют. Но очевидно, что они видят в этой публикации состав преступления.
— Сколько человек, кроме вас, проходят по делу?
— Понятия не имею.
— Сообщалось, что обысков было три. У вас в квартире, в офисе издания и где-то ещё. Что понятно про третий адрес?
— Во время обыска у меня опера переговаривались с другими группами. Двумя как минимум. Но где были ещё обыски, я не знаю. Одна группа была у меня в квартире, одна — в офисе. Что там был ещё за адрес, я не знаю.
— С вас взяли какие-либо подписки, изъяли какие-то персональные документы, загранпаспорт?
— Никаких подписок с меня не брали. Ничего не изымали.
— Судьба изъятой аппаратуры? Ваш адвокат Анна Ставицкая говорила после обыска, что не имеющее отношения к делу вернут. Вернули?
— Нет. Пока об этом не говорили. Думаю, что они технику ещё даже не трогали. Изъяли ведь в пятницу ночью. Думаю, что начнут разбирать только сегодня.
— Дело вокруг экс-супруги Сечина — дело пятилетней давности. С чем, кроме этого дела, вы могли бы связать интерес к вашей персоне?
— Это всё уже переходит в область догадок. У нас выходит много различных статей. Все эти статьи так или иначе властям не нравятся. Мы публиковали статьи про зятя Путина Шамалова (Кирилл Шамалов был мужем Катерины Тихоновой, которую называют дочерью президента). Мы публиковали статьи про первого замдиректора ФСБ Королёва. Интересантов может быть много.
— Ваш коллега, столичный журналист-расследователь Сергей Канев, сегодня написал, что ваше преследование якобы связано с разборками внутри властных «кланов». Якобы происходящее с вами — удар по Сечину. Что вы можете сказать об этом?
— Это предположение Сергея Канева. Честно, не знаю. У меня нет таких сведений. У Канева есть такое мнение. Он уважаемый журналист со множеством источников. Он имеет на это мнение право.
— Расследование вышло 11 марта, к вам пришли через месяц. Была ли какая-то реакция на это расследование с момента публикации?
— Нет. Никакой реакции на это расследование со стороны властей не было. В целом от инсайдеров никакой реакции не было.
— «Сергей Королёв на наши вопросы пока не ответил», — написали вы в конце того текста. И с тех пор никакой реакции не было?
— Нет. Сергей Королёв никак себя с тех пор не проявил. Мы отправили запрос в ФСБ. Он не ответил.
— То, что происходит с вами сейчас, влияет на вашу готовность опубликовать его ответы, если ответит?
— Ответов нет. Вообще по закону о СМИ он обязан был ответить. Но он этого не сделал до сих пор. Ответит — безусловно, всё напечатаем, как порядочные журналисты.

— Редакционная политика изменится? Условно говоря, писать про ФСБ, как раньше, — теперь табу?
— У меня к ФСБ, президенту, всем другим людям, про которых пишу, отношение одно. Как к функции. Не личное. И когда я пишу про ФСБ или её представителей, я пишу не про то, кто плохой или хороший. Я пишу, как выполняется функция. Хорошо или плохо? И если мне будут известны факты нарушений, злоупотреблений со стороны отдельных представителей службы, естественно, я буду писать. Никакие обыски и уголовные дела этому не помешают.
— Но мы же с вами понимаем, какими бывают последствия, когда те, кто раздражают своей принципиальностью, не соглашаются останавливаться. У вас есть протоколы безопасности?
— Я не первый год занимаюсь тем, чем занимаюсь. Конечно, эти риски есть. Как показывает это дело — риски реальные. Но я выбрал свою профессию. Я взрослый человек. Эти риски я осознаю.
— Я про ситуацию, когда человек шёл по улице и не дошёл. Он всё осознавал, само собой…
— Понятно, что в России не самая благоприятная ситуация с журналистами. Что я могу сказать? Все, кто занимаются опасными расследованиями, подвержены рискам.
— В вашу защиту высказывается Евросоюз. Поддержка из-за рубежа — это хорошо, или, уже наоборот, это помеха для журналиста-расследователя в РФ?
— Чем больше говорят о деле, тем лучше. Но я лично Евросоюз не просил меня поддерживать. Хотя рад, что это происходит, потому что у меня много коллег и друзей из других стран мира, с которыми я работал над международными темами (в 2017 году Анин вместе с 300 журналистами получил Пулитцеровскую премию за расследование по «панамскому архиву». — Прим. ред.). Думаю, что эта поддержка была выражена прежде всего благодаря их активности.
— Союз журналистов России на своих страницах про вас молчит. У вас есть ответ на вопрос почему?
— Да мне без разницы, честно говоря. Я вообще не знаю о существовании такой организации. Я что-то о нём слышал. Но я в нём не состою. Не знаю, для чего он на самом деле нужен.
— Есть ли вообще в России солидарность, вроде той, какую демонстрируют коллеги на Западе?
— Есть на самом деле. Я не ожидал, что так много коллег и людей возмутятся тем, что происходит со мной. Тем, что происходило с другими журналистами. Например, с Иваном Сафроновым. Например, с Иваном Голуновым. Солидарность есть. Понятно, что она есть не во всём цеху. Независимых журналистов мало. Среди тех, кто остался, солидарность есть. Я не чувствую себя одним. Очень рад, что эта поддержка есть. Без неё было бы очень тяжело.
— Соратница Навального Мария Певчих считает, что российская расследовательская журналистика — самая крутая в мире. Но как измерить её крутость?
— Количеством текстов. Опасностью тем. Я с Марией согласен. Я её очень уважаю. Она один из лучших расследователей России. Одна из лучших в мире. Я согласен, что такого количества острых тем, как в России, сейчас нет нигде. Понятно, что в какой-нибудь Мексике или Венесуэле всё ещё опаснее. Есть страны, где сразу расстреливают. В России, как видите, пока нет. Российская расследовательская журналистика сейчас в расцвете.
— Но ведь всё, что мы знаем про успех расследователей в России, — это их проблемы с силовиками после публикаций. Голунов, Сафронов, ребята Навального, теперь вы. Общество не видит позитивных перемен. О каком успехе вы говорите?
— Если так оценивать успех, то, конечно, его нет. Но мы делаем свою работу ведь не только для того, чтобы перемены происходили здесь и сейчас. Перемены формируются годами. Думаю, что журналисты-расследователи во многом способствуют таким переменам, по крайней мере в будущем. И я думаю, что эти тексты, расследования всё равно сыграют свою роль в истории.
— Пока это показывает только ваше преследование. Пять лет прошло, а текст Секрет «Принцессы Ольги» помнят.
— Я не совсем такие перемены имел в виду (улыбается). К журналистике может быть два подхода. Первый: она меняет мир к лучшему здесь и сейчас. Второй — описание реальности. Чтобы через 50–100 лет люди судили о событиях не по сюжетам Дмитрия Киселёва, а по расследованиям. И в этом смысле расследовательская журналистика в России сегодня свою функцию выполняет.
— Вы работаете на историю?
— Мы себя этим хоть как-то успокаиваем. Чтобы доказывать себе, что мы нужны, мы говорим себе, что работаем на историю.
— Чем принципиально отличается расследовательская журналистика в России от мировых практик?
— Тем, что нам приходится сложнее добывать информацию. Тем, что нам не отвечают госорганы, тем, что не работают законы, тем, что мы чаще подвергаемся преследованиям. И тем, что с учётом всех этих преград мы вынуждены быть креативными в том, как мы выбираем темы и их разрабатываем. И это делает российских журналистов-расследователей, на мой взгляд, более подготовленными, чем даже многих моих иностранных коллег. Например, в России вы отправляете запрос, на который вам обязаны ответить по закону, а вас просто игнорируют. Одна из главных трудностей.
— Вы хотите сказать, что журналист в Испании обязательно получит ответ и ответ будет содержательным?
— Да. Потому что отвечать чиновника обязывает закон. Чиновник это не сделал — он будет уволен. У нас же нет неминуемой ответственности за несоблюдение правил.
— А что можно с этим сделать?
— Ничего. Это правится, когда власть начинает соблюдать закон.
— А это-то с чего вдруг начнётся? Пока мы видим, что на вашу работу реакция несколько иная.
— Пока обыски, да. Но я не работаю во власти. Я не могу сказать за них. Я могу лишь продолжать свою работу. Писать и публиковать тексты.
— Что говорит опыт ваших коллег за рубежом? Там тоже оперативным сопровождением журналистов занимаются органы госбезопасности после выхода болезненных публикаций?
— Такое было в США много лет назад. Сейчас нет. С другой стороны, есть случай Джулиана Ассанджа, конечно же. Его деятельность можно считать журналистской. Он публиковал секретные документы. Его преследованием занимаются спецслужбы США.
— Какова результативность вашей совместной работы с иностранными коллегами?
— Пример «панамского досье». Премьер-министр Исландии ушёл в отставку. Ряд других чиновников ЕС ушли в отставку. Это результат? Наверное, да.
— В день обыска вы выступали на вебинаре, где заявили, что «у независимых медиа осталось совсем немного времени, через год или меньше нас всех прикроют», а всего через час к вам пришли эфэсбэшники?
— Да. Именно так и было.
— Почему «через год»?
— Я условно сказал. Год или чуть больше. Просто у меня ощущение, что в России всё сильнее закручиваются гайки. Нам осталось мало времени.
— Что для вас «красная черта», когда гайки закрутят до упора, когда вы поймёте, что нужно что-то менять в своей работе?
— Не знаю… Плана Б у меня нет. Может, таксистом пойду работать. Может, разработчиком. Выучил тут программирование.
— Но, если запахнет керосином, вы скорее готовы временно лишиться возможности работать, отдохнув в тюрьме, или скорее смените прописку и будете работать удалённо?
— У меня нет ответа на этот вопрос.
— Вы его себе не задавали?
— Задавал. И я себе всегда отвечал, что у меня нет ответа. Я буду на него отвечать, когда возникнет такой выбор.

— У нас работа с иностранными коллегами — это уже «измена Родине», по крайней мере, в риторике официальных лиц. Смотрим на кейс Навального или на Сафронова.
— Я так не думаю.
— Вы не опасаетесь, что ваша работа законодательно может стать невозможной в РФ? Мы видим, как меняются правила.
— Наша работа уже и так законодательно очень затруднена. Огромное количество законов принято недавно. И про фейки, и про блокирование ресурсов без судебных решений. Нас пытаются задвинуть в эти рамки. Мы же пытаемся продолжать делать свою работу честно. Сомневаюсь, что можно запретить общаться и делать свою работу совместно с другими коллегами, с коллегами из других стран мира. Но, если это сделают, я тогда и буду думать, что с этим делать.
— Вы видите отклик общества на свою работу? Не вашего круга общения, а именно обывателя. Вы уже признали, что ваша работа скорее для истории…
— Я не согласен, что обывателям наша работа до лампочки. Когда я приезжаю в регионы, разговариваю с людьми, как было, когда мы делали материалы про мусор, — а это то самое общество; когда ты пишешь про проблемы, которые людей волнуют: свалки под окнами, мусоросжигающие заводы, которые отравляют жизнь, — люди благодарят. Люди очень признательны, когда ты пишешь про них, про их проблемы. Отклик есть. Более того, некоторые из наших текстов помогали конкретным людям. Мы написали репортаж. Человек, которому государство должно было обеспечить реабилитацию после тяжёлого медицинского случая, в итоге эту реабилитацию получил. А до нашего текста государство даже не шевелилось. Поэтому я вижу отклик.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»