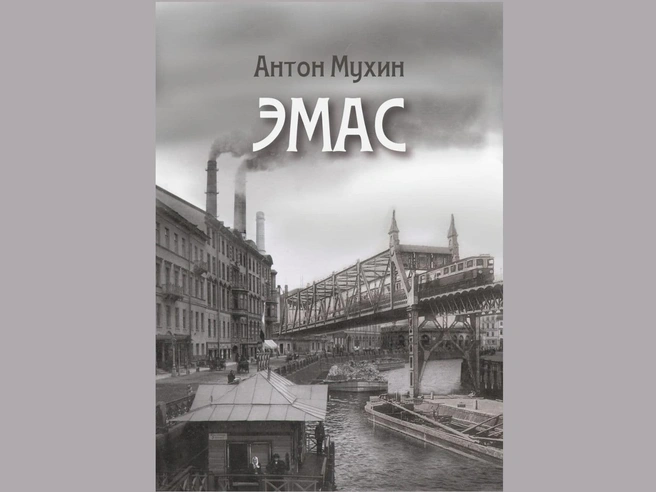
«Фонтанка» публикует новый роман журналиста Антона Мухина. Главы «ЭМАСа» будут выходить по две в день. Читайте вместе с нами о том, как противостоять диктатуре сети.
О чем эта история
ЭМАС — социальная сеть, электро-механический адресный стол, созданный на базе телеграфа и механических компьютеров-табуляторов, появившихся в России во время всеобщей переписи 1897 года. Как и всякая соцсеть, она стремится установить полный контроль над своими абонентами. И лишь отверженные, прячущиеся на старообрядческом Громовском кладбище за Варшавской железной дорогой, подозревают, что абонентский номер — и есть предсказанное число зверя. Но не они одни восстанут против ЭМАСа.
XV
Когда Зубатова, как и любого новообретенного, привели в пакгауз, он сразу же вспомнил атмосферу многочисленных виденных им революционных кружков. Всё было ему знакомо, еще даже не слыша ничьих слов, он мгновенно дал Хрулёву кличку Предводитель, очкастому чиновнику — Канцлер, выделил из толпы нескольких «сотников», и только Ольга заставила его запнуться. Все вокруг относились к ней благоговейно, но это было не отношение к «мамке», которая требует себя уважать, а к ребенку. Так монахини или старые девы опекают случайно и временно оказавшегося у них на руках малыша, а он, ничего от них не требуя и даже не очень понимая происходящее, без всякой задней мысли принимает их заботу. Ольга повернулась в его сторону, безразлично, как и на всех прочих, посмотрев, и он на мгновение заглянул в её глаза.
Они были бледного, чистого голубого цвета, которые он прежде видел лишь однажды, у курсистки Женского медицинского института Ани Савицкой. Зубатов познакомился с ней в квартире у каких-то общих знакомых в доме с высокой башней на Среднем проспекте и с тех пор, когда ему случалось бывать на Васильевском острове, всегда обходил этот дом за квартал. Ей было уже 25 лет, ему только 19, он любил её без памяти, а она состояла в революционном кружке и брала его с собой.
Вместе они ходили за Невскую заставу, в выстроившиеся вдоль Шлиссельбургского тракта барачные казармы рабочих Обуховского и Александровского заводов. Сначала ехали на трамвае, а потом шли пешком, пробираясь через грязные лужи, в которых ползали голопопые дети, между развешанного на веревках сырого штопанного белья. Разговаривали с товарищами, они сначала подозрительно смотрели на Аню, на мягкую гладкую кожу её пальцев, так не похожую на их собственные пятерни и лапы их баб. Но она была страстной, её глаза горели, и они кивали головами, соглашались, оглаживая усы, прятали за пазуху напечатанные на папиросной бумаге прокламации. Какой она была умной! Зубатов заучивал Кропоткина страницами — лишь бы быть ей ровней. Возвращались обратно в город поздно, светлыми летними ночами, когда все фабрично-заводские спали мертвым сном и только по Неве, дождавшись разведения мостов, сновали и выли пароходы.
В конце июля, в самую жару, под Финляндским железнодорожным мостом, спрятавшись за широкую железобетонную его опору, Зубатов дрожащими от возбуждения пальцами расстегивал бесконечный ряд мелких пуговиц на её блузе, а Аня улыбалась, покусывая губу и запрокинув голову, совсем ему не помогая.
Агитационная работа не давала результата, и Зубатов даже не понял, как пришло понимание необходимости террора. В кружке ничего не обсуждали — и без слов выходило, что стрелять должна Савицкая. Она, бесспорно, была лучшей. Все занялись подготовкой к покушению, и происходило это так буднично, как будто речь шла о доставке нового транспорта листовок из Финляндии или установке подпольной типографии. И Зубатов тоже включился в общее дело, горячо обсуждал сначала, кого именно следует убить, а потом участвовал в слежке, установлении маршрута и графика. И встречи с Аней были прежними, и она всё так же закусывала губу.
Но однажды утром Зубатов вдруг осознал, что покушение, к чему бы оно ни привело, будет для Анны концом. Два дня ходил он, пораженный этой мыслью. Не ел, не видел ничего вокруг себя, наталкивался на прохожих и каким-то чудом избежал падения под трамвай, так что вагоновожатый, успев затормозить, даже оставил своё место и выскочил на улицу, намереваясь его вздуть.
— Аня, — сказал Зубатов, глядя в пол, когда они были вдвоем. — Так ведь это же конец. Совершеннейший, неминуемый конец.
— А? Ты о чём, Серёженька? — она действительно не поняла.
— Ну как же. Ну вот об этом, что мы задумали. Ведь тебе же конец.
— Ах, ты об убийстве великого князя? Так ведь это же надо. Какой ты глупый, Серёжка! Читаешь, читаешь книги — а всё без толку. Как же иначе? Сам ведь видишь. Но что думать об этом вперед!
Она вытянулась на кровати, и волосы её растрепались по подушке.
Зубатов остался сидеть на стуле.
Он и сам понимал, что говорит вещи совершенно недопустимые, которые могут разом опустить его в глазах Ани в самую гущу обывательского класса, перечеркнуть всё то, ради чего они вместе жили и трудились. Но и сил не сказать у него не было.
— А как же мы? Как же я без тебя?
Аня поднялась на кровати. Зубатов думал, что она сейчас отчитает его, как школьника, и может быть, даже выгонит.
— Серёжка, Серёжка, — она подошла, обхватила его голову и прижала к своему голому животу. — Какой же ты еще ребенок! От маминой сиськи оторваться не можешь. Надо вырастать. Вырастать.
Всю ночь он, и правда как ребенок, плакал на её плече. Впоследствии Зубатов часто думал — что чувствовала в этот момент Аня? Колебалась ли? Был ли у него шанс удержать её от задуманного? И надеялся, что не колебалась, потому что на виселицу нужно идти с твердым осознанием правильности всего сделанного — иначе это совсем страшно.
Но, наверное, что-то было в её душе, потому что в день накануне покушения, когда все члены кружка собрались еще раз обсудить детали, она шепнула ему на ухо: «Не приходи сегодня». И больше у них не было возможности увидеться.
Следующим утром Аня, зная, что великий князь Владимир Александрович приедет в Академию художеств на торжественное заседание, зашла под видом посетительницы академического музея в фойе. Там она постояла у книжного киоска, и, когда он зашел, почти в упор выстрелила 5 раз из браунинга. Был убит какой-то генерал из свиты, но сам великий князь получил только касательное ранение. Савицкую схватили, отвезли в Петропавловскую крепость, где через несколько дней судили военно-полевым судом и ожидаемо приговорили к повешению. Казнь состоялась в Лисьем Носу через неделю.
Той ночью Зубатов не спал, и около 6 утра, когда обыкновенно совершалось повешение, чувствовал, как сдавливается его шея.
На следующий день их кружок, прекративший в целях конспирации свои заседания, собрался впервые после покушения (от присяжных поверенных Савицкой было известно, что она не назвала на следствии ни одного имени, поэтому угрозы арестов не было). Зубатов не знал, какими увидит своих товарищей после произошедшего, ожидая найти их в состоянии, подобном своему, то есть на грани помешательства. Но, к величайшему изумлению, обнаружил, что никаких перемен ни в ком не произошло. Хотя они и были огорчены смертью Анны, но деловито продолжали свою работу. Так наступающая в штыки солдатская цепь лишь на мгновение замечает, как падает убитым товарищ, и шагает вперед. Анина смерть не перевернула мир. И сколько нужно времени, чтобы стул у буфета с гнутой буковой спинкой, на котором она обыкновенно сидела, откинув назад голову и подсунув под себя ладони, пока еще остающийся пустым, занял случайный член кружка? Неделя? Две?
— Нельзя было позволять это Ане, — сказал он бородатому Максиму, студенту-политехнику, который был в кружке главным.
— Вот как? — искренне удивился тот. — А кому же?
— А почему, например, не тебе? — неожиданно зло спросил Зубатов.
— В каждой организации есть те, кто придумывает, и те, кто исполняет. И первые должны иметь шанс выжить, чтобы продолжать. Я понимаю причины твоей злости и совсем на тебя не сержусь. Но, в конце концов, я рискую не меньше — если организацию раскроют, меня повесят первым. Но ты, кстати, тоже мог бы.
— Да. И за это я на себя сержусь, — резко ответил Зубатов.
Он ни с кем больше не разговаривал. Ни о Савицкой, ни о чём другом. Товарищи не трогали его, понимая, что он скорбит не только по покинувшей их душе, но и по телу. Но Зубатов не скорбел. Он действительно именно удивлялся.
В тот же вечер он явился в охранное отделение и сообщил имена всех этих людей, не достойных того, что Аня за них умерла.
С тех пор прошло больше 20 лет, и Зубатов ни у кого больше не видел таких глаз.
XVI
— Вот, господин Клыков, — студент подвел Зубатова к Хрулёву, — изволят быть жертвой эксперимента ПТА по отключению абонентского номера.
Хрулёв внимательно, исподлобья посмотрел на Зубатова, прикидывая, какие мотивы задействовать в беседе с этим господином. Понятно, что не о Страшном суде, но в достаточной ли степени он отвержен, чтобы обличать перед ним лицемерие этого мира? Тут так легко напугать, а человек, видимо, состоятельный и неглупый, такие сейчас особенно нужны.
— Вам, господин Клыков, извините, не знаю вашего имени-отчества... — начал Хрулёв, взяв Зубатова под руку.
— Сергей Владимирович.
— ...Сергей Владимирович, в известной степени повезло: поставив над вами эксперимент и лишив вас абонентского номера, система исторгла вас, но и утратила свою власть над вами. Разрыв был мучительным — вы потеряли связь со всем, что было дорого, — но зато вы, глядя со стороны, понимаете, каково тем, кто не потерял эту связь. Как опутывает их паутина проводов и как безнадежно они попадают под власть ЭМАСа. Вам тем более повезло, что вы оказались в нашем кругу — тех, кто делится своими чувствами и мыслями без помощи машин. У кого, таким образом, их невозможно отнять. Оставайтесь с нами!
— Благодарю вас за приглашение. Но какова же цель вашего собрания?
— О, я вижу, вы зрите в корень, — обрадовался Хрулёв, подумав, что Зубатова хоть сейчас можно ставить унтером. — Вы знаете, в чем цель эксперимента, поставленного над вами? Проверить, сколько дней вы сможете прожить без абонентского номера, прежде чем наложите на себя руки или лишитесь рассудка. Таким образом они проверяют, достаточно ли уже поработили людей, чтобы переходить ко второй части плана, или еще нет, и люди еще могут без них обходиться.
— Что же это за вторая часть?
— Известно что: управлять. Давать одним голосам звучать громко, других приглушать, третьих затыкать совсем, а четвертых и вовсе выкидывать. Будь ты доктор, купец или член Государственной Думы, даже писатель — всякому нужна реклама. Не в том обыденном смысле, как аптекари рекламируют свои пилюли, а купцы — новые товары. А в том, что всякий человек рекламирует себя окружающим, подавая таким, каким хочет чтобы они его видели. И вот, они хотят монополизировать всю эту рекламу, а потом ранжировать, кому и сколько прав на неё давать.
— И что же вы предлагаете?
— Мы хотим открыть людям глаза. Мы говорим им: не позволяйте машинам подменять мир вокруг вас. Если каждый день к нам будет приходить хотя бы один человек, и он расскажет правду хотя бы двоим, а каждый из них — еще двоим и так далее, много через год люди в Петрограде победят машину. ЭМАС останется, но будет не более чем удобным средством сношений. Как подзабытый уже телефон. Так что же… вы с нами?
За свою полицейскую карьеру Зубатов видел много таких организаций. В некоторые по молодости он входил сам. Потом, уже будучи начальником, вникал в их жизнь по рапортам секретных агентов и филёров. То, что было сейчас перед его глазами, укладывалось в общую схему и не представляло интереса. Но слова Хрулёва про ЭМАС звучали любопытно. А главное — здесь была барышня с глазами Ани.
— Я, конечно же, с вами, любезный Егор Петрович, — сказал Зубатов.
Хрулёв уже мало походил на рабочего: пострижен был как лондонский клерк, коротко на пробор, и носил костюм, хоть и сидящий пока еще мешковато, с галстуком и часами в жилетном кармане.
К 10 часам вечера из пакгауза стали расходиться: те, кто жили на своих квартирах, — домой, а кто ночевал тут — перебирались на жилую половину. Зубатов оставался — он ждал, чтобы пошла Ольга. И когда она, накинув макинтош, потому что на улице шёл мелкий дождь, вышла за дверь, он поднялся следом.
— Далеко ли вы живете? — Зубатов нагнал Ольгу.
— Я? Я живу здесь, в пакгаузе. Просто вышла погулять.
— А прежде?
— Прежде? Прежде я не помню. Да и ни к чему это.
По темному двору Варшавской товарной станции они шли к ярко освещенному фонарями Обводному каналу. Только в лужах между шпалами и непонятно как проросшими в этой засыпанной угольной крошкой земле клочками травы иногда отражался свет недалекого города. Черным силуэтом перед ним поднималась церковь Общества распространения трезвости, колокольней своей напоминавшая графин с водкой.
Сам канал, несмотря на поздний час, ревел моторами, ломовиками, трамваями, баржами и патефонами-автоматами пивных. Под фонарем пьяный мастеровой поносил матом жену и силился ударить её, но, не удерживаясь на ногах, падал, потешно размахивая руками и расшибаясь в кровь о грязную мостовую. Собравшаяся вокруг них толпа маклаков, проституток, вокзальных попрошаек, китайцев и прочего сброда хохотала, а баба, жена мастерового, выла, одновременно и тщась увести мужа с этого позора, и страшась попасть под его кулаки. Вскоре позор, однако, кончился — толпа заскучала от одноообразия происходившего и переместилась к другому фонарю, где начинал кликать юродивый. Увидев, что ему удалось заполучить внимание публики, он забился в конвульсиях еще сильнее, принялся кататься по булыжникам, нимало не смущаясь опасностью угодить головою в лошадиную кучу, и стал пророчествовать о скором падении Петрограда, последующим в семь дней за смертью царевича. Баба подхватила уснувшего мастерового, взвалила на плечо, не боясь замазаться его кровью, и потащила домой, в свою теплую постель.
За ними, над заплеванной водою канала, по эстакаде проносились лучи прожекторов скоростных поездов. А еще выше и дальше, на крыше дома с той стороны, на углу с Измайловским, где убили Плеве, светился тысячами лампочек экран ПТА. «Бюллетень Северянина: В дожде петроградском, туманно-бензиновом, в свете тысяч огней на рекламах неоновых, вы уходите в платье своём крепдешиновом, оставляя амантов, тоскою окованных. Новый стих, предлагаю вниманию публики, полностью выйдет уже в октябре», — сияла надпись. Через минуту её сменила другая: «Бюллетень конторы Крузе: сообщаем о продаже последних участков в Лигово, у ж/д станции, есть электрическое освещение, аб. н. 323-7848». Потом и она погасла, чтобы появиться третьей: «С Юго-Зап. фронта: вчера под Тарнополем германцами предпринято наступление, отбитое нашими войсками. К наградам представлено 38 офицеров и нижних чинов, из коих 34 — посмертно. Сообщ. ПТА».
— Егор говорит, что город обманывает людей: сначала прельщает их, заставляет поверить, что одиночества нет, а потом бросает один на один с бедой, — сказала вдруг Ольга. — Я много думала об этом. Это город моего детства, я была здесь счастлива. Он — хороший. Это люди, которые живут в нём, плохие.
— Мне казалось, Егор говорил, что люди хорошие и надо помочь им вырваться из этого обмана.
— Он лжет, — коротко ответила Ольга.
— Тогда отчего вы здесь?
— Я с ним потому, что, во-первых, мне больше быть негде, а во-вторых — он борется с ЭМАСом.
— Вы ненавидите ЭМАС?
— Вы читали протоколы судов над террористами, убившими министра Ларова? Пётр Ипполитович, товарищ Егора, давал мне газеты с подробными репортажами из суда. Всё, что они посылали друг другу через ЭМАС, узнала охранка.
— Полиция и прежде могла читать письма, — пожал плечами Зубатов.
— Тут другое. Знаете, у Егора для всех свои слова. Нищим он дает чувство превосходства над богатыми, брошенным — возможность спасать других, умных посвящает в планы переустройства мира. А фанатикам рассказывает о пришествии Антихриста. И только им он не врет. Всё по Иоаннову сценарию: эти провода опутали нас, прельстили своим удобством и стали незаменимы. Но теперь тот, кто владеет ими, читает наши мысли как в открытой книге и слышит все наши разговоры. Мы порабощены. Прежде в черных кабинетах распечатывали письмо того, кто заранее вызвал подозрение. Теперь же мы все стоим перед ним обнаженными и совокупляемся на его глазах, а он видит нас всех и жмурится от удовольствия. И что мы решим сделать завтра, он знает уже сегодня.
— Зачем он это делает?
— Он хочет власти над людьми.
— Нет, я про Егора. Зачем он собрал всех и каждому говорит разное, в чём его цель?
— А. Всё равно, ответ такой же. Он хочет власти. И, кстати, он как-то говорил, что всё началось после того, как его отверг ЭМАС. Любопытно, правда? Вообще, конечно, Егор ничем не лучше машин, и тот, кто уничтожит их, следом должен будет уничтожить и его.
— Надо сказать, с вашей стороны было весьма недальновидно сноситься через ЭМАС при подготовке теракта, — сказал Зубатов.
Риск был невелик. Конечно, она могла испугаться и закрыться, но Ольга, очевидно, умна, а умные люди никогда не избегают противостояния с себе подобными, пусть даже и на свою погибель. Она отошла от него на шаг, пристально посмотрела и усмехнулась.
— Много ли чести указывать барышне на ошибки её молодости, господин Зубатов?
— Отчего же Зубатов?
— Оттого, что в книге революционной мести была и ваша фотография. Не в числе первых, конечно, но могло так случиться, что я бы в вас стреляла и потом за это была бы повешена.
Зубатов, конечно, знал про такие книги. Небольшие тетрадки, напечатанные за границей на деньги смертельно больного Михаила Гоца, тратившего своё огромное наследство, доставшееся ему от отца, московского купца, на дело революции, они контрабандою ввозились в Россию в огромных количествах. И, не имея конкретного адресата, распространялись наравне с прочей нелегальной литературой. Так что любой кружок или даже отдельный гимназист мог найти на их тонких папиросных страницах фотографию доступной для себя жертвы, её имя, звание и суть преступления, за которое она приговаривалась к казни. Зубатов видел несколько таких тетрадок и со своим портретом, но типографское качество было таково, что этому портрету соответствовал любой мужчина среднего возраста без особых примет, поэтому уже забыл и думать их бояться.
— Вряд ли моя смерть стоит вашей, — сказал Зубатов.
— Именно, — Ольга улыбнулась. — А вы ведь тоже закончили свою жизнь?
— Не знаю.
— Подумайте сами. Полицейский чиновник, руководивший некогда всей тайной полицией империи, отправленный в отставку, теперь в довольно... скромном платье приведен студентом-сектантом в самую эту секту, знакомится там ночью с барышней-террористкой и отправляется гулять с ней по городу. Разве вы сами не видите, что жизнь ваша разделена на две части.
— Пожалуй. Хотя я мог бы прийти сюда по долгу службы.
— Нет, конечно. По долгу службы вы отправили бы какое-нибудь гороховое пальто. Не от трусости, конечно. Но у человека в вашей должности должно быть слишком много бумаг, докладов и аудиенций, чтобы осталось время на ночь, город и меня. Впрочем, не расстраивайтесь: я тоже закончила свою прежнюю жизнь. Я не умру теперь так дешево. Видите, как мы с вами похожи.
По проспекту они дошли почти до самого Троицкого лейб-гвардии Измайловского полка собора. Он поднимался из-за темных силуэтов домов своими огромными куполами, и бронзовая богиня Ника перед ним, взгромоздившаяся на триумфальную колонну из трофейных турецких пушек предпоследней с ними войны, поднимала руку с лавровым венком над проносившимися под ней автомобилями. От дождя воздух стал совсем мутным, и неоновые рекламы расплывались в нём яркими пятнами.
На 1-й роте они свернули направо и пошли в сторону Забалканского проспекта. Когда-то в этой части города стояли одноэтажные казармы гвардейцев, а теперь громоздились, давя друг друга, многоэтажные махины, нависая над пространством улицы эркерами, с трудом удерживаемыми облезлыми краской атлантами с вытаращенными от напряжения глазами. Под ними на столбах с изящно изогнутыми в стиле арт-нуво перекладинами в несколько рядов висели телеграфные провода. Они перекидывались на дома и оплетали их тонкой паутиной своих окислившихся в сыром воздухе медных отростков, как в дебрях английских и французских азиатских колоний дикие растения оплетают древние заброшенные города. По ним электрограммы с частотой в десятки герц летели в квартиры жителей Петрограда.
У старого двухэтажного, непонятно как выжившего в эпоху охватившего город строительного бума дома, перед уличным аппаратом ЭМАСа толпилась публика. На крыше же дома стоял огромный ламповый экран, высвечивавший вместо обычных сообщений из бюллетеней какую-то частную ерунду. Толпа, однако, с интересом на неё глядела.
— Вон, вон, вишь ты! — схватил в эмоциональном переполнении проходившего мимо Зубатова за локоть какой-то солдат, тыкая пальцем в экран: — Читайте, барин!
«Третьего дня прибыл с фронта и целую неделю радуюсь жизни в Питере. Встречай, столица! Ряд 122 тамбовск. полка Степченко».
— Ты, что ли, Степченко будешь?
— Я, — гордо ответил солдат.
— А зачем ты это написал?
Солдат смутился.
— Как же это зачем? Известно зачем. Чтобы все знали.
— Так а что ж ты ни адреса не написал, ни номера своего абонентского? Как же тебя найдут?
— Кто ж меня будет искать, когда я в Питере первый раз в жизни и ни единой знакомой души у меня тут нет?
— Тогда зачем же ты написал?
— Так я ж и говорю: чтобы весь мир знал про меня и радость мою. Что вот, значит, рядовой Степченко не просто так, в окопах гниет, а видишь, в Питер выбрался. Дворец, где государь живет, видел. А то, может, вернуся я на фронт, а меня немец — раз! И что? И всё, поминай, как звали. А так, значит, уже нет, уже не просто так, уже миру показался. След свой имею.
Зубатов и Ольга с интересом смотрели на солдата.
— Похвастаться, значит, хочешь? — спросила она.
— Да не похвастаться! — солдат раздосадовался, что не может объяснить себя господам. — А жизнь свою миру явить. Ведь когда она во мне только, со мной и прекратится. А так я как бы в мире есть. Ах ты, господи, как же сказать-то...
— Да поняли мы, — сказал Зубатов. — Когда следы твоего существования видны — ты существуешь, а если нет — то уже как бы и нет.
— Во-во, — подтвердил солдат. — Одно слово — ученый, как ловко сказал!
Тут он воровато огляделся и, приблизившись к Зубатову с Ольгой, доверительно сообщил:
— А мне тут один маньчжурец, или чёрт его знает, кто он, сказал: в наших, говорит, книгах пишут — бывает такое, что человек помер уже, а сам этого еще не понял. Так вот, надо оглядеться: остаются ли за тобой следы. Если остаются следы — значит, есть ты. Я-то не поверил, потому что у православных христиан известное дело — как помер, так душа твоя и улетает. А только сейчас вот вспомнил, когда вы сказали. Совсем как маньчжурец тот.
Зубатов усмехнулся и вытащил из кармана серебряный рубль.
— На вот тебе, на папиросы.
— Что ж вы, барин, думаете — русский я солдат или нищеброд какой? Погодите, еще до Берлина дойду и самого кайзера на штык подыму!
От этой мысли он развеселился и даже заулыбался обросшим щетиной ртом с выбитым передним зубом. Но потом всё же взял рубль, сам этому смутился, пробормотал «благослови вас Бог, барин и барыня» и исчез в толпе.
— Идущий на смерть благословил нас за папиросы, — хихикнула вдруг Ольга и прижалась к плечу Зубатова.
— Morituri te salutant, — задумчиво повторил он из гимназического курса латыни.
— А вообще, конечно, это как есть дьявольская прелесть, — уже серьезно сказала Ольга.
— Что?
— ЭМАС дал ему возможность существовать. Но он же может её и отобрать, если захочет. Даже ты, хотя твои портреты есть в книге революционной мести и многие готовы умереть ради твоей смерти, ты, чей след и, значит, существование неоспоримы, — и то почувствовал себя вне жизни, когда тебя отключили от ЭМАСа. А каково им? Только ЭМАС позволяет им существовать. Но вообще — правильно Юрочка-Божедом говорит: это всё от безверия. Не верят в Царствие Небесное, на земле хотят утвердиться.
Ольга показала на людей, глядевших на экран.
«Сын Пашка Георгия вчера получил в Галиции! Миронов» — высветили лампочки счастье какого-то Миронова.
Только сейчас Зубатов понял, что толпа — это не просто толпа, а выстроившийся к аппарату ЭМАСа хвост из желающих сообщить о себе миру. И, сообщив, поглядев на себя на экране, они тут же уходят, нисколько не интересуясь тем, что напишут после них. Да и то, что читают они, стоя в хвосте, читают только от нечего делать, безо всякого интереса, и сразу забывают. И давешний тамбовец, значит, обманулся: нет его в мире.
«Женюсь завтра на дочери мастера! Юзеф Ладовский» — осветили темноту осеннего вечера лампочки.
— А ты? Ты не нуждаешься в ЭМАСе? — спросил Зубатов.
— Нет. Мое существование в другом. И вне зависимости от того, удастся ли мне задуманное, оно уже есть во мне. Поэтому мне не нужен ЭМАС.
— Всё-таки ты решила кого-то убить, — вздохнул Зубатов. — Надеюсь, не меня?
— Не думай об этом, — весело сказала Ольга.
Она схватила его за руку и потащила вперед. Если бы Зубатов дал себе труд посмотреть по сторонам, он бы увидел господина, на которого показывал безумный студент перед конторой ПТА на Морской улице. Но и господин этот тоже не заинтересовался Зубатовым с Ольгой.
Они дошли до Забалканского, когда часы на башне Технологического института пробили одиннадцать. Но Петроград и не думал засыпать. Весь сиял рекламой уходивший в сторону Невского Загородный проспект, на мокрые панели уютно падал свет из окон заведений на первых этажах, и звуки румынских оркестров оглашали его, вырываясь из открывавшихся дверей. И выше, в квартирах, тоже горели окна. Там прислуга грела на кухонных плитах медные чайники и в чай добавляли наливки и ликеры, потому что нет ничего приятнее, чем, придя домой с промозглой улицы, согреть себя этой смесью, впитать её аромат и, укутавши ноги в плед, почитать новости с фронта. А в других квартирах лежали, обнявшись и уткнувшись друг в друга, слушая, как дождь бьет в стекла, и даже если с карточки на комоде смотрел вчерашний юнкер, опершись руками об эфес шашки, с нервно написанным уже на перроне посвящением на обороте, а в углу перевязанный черной лентой, — так что ж? Не вечно же теперь ждать его невозможное возвращение.
И ползли по стенам провода, заползали в квартиры, к дорогим, в черных лакированных корпусах, аппаратам ЭМАСа. И бесконечно струились из них ленты: каждый сообщал прочим, что он существует, и прочим не было до этого дела, но было важно, что им сообщают. Поскольку таким образом признавалось и их существование тоже.
Возьмись кто-нибудь изучать вопрос, почему городская управа допустила, что провода подводятся по фасадам зданий прямо к каждой квартире, а не заводятся изнутри, как, например, электрические, он едва ли найдет ответ. Но если всё произошло умышленно (что можно предположить наверное, не боясь облыжно обвинить членов управы во мздоимстве), то надо признать: придумавший это обладает талантом великого декоратора. Поскольку паутина, которой ЭМАС оплел город, стала не только фигурой речи, но и зримой реальностью.
Но Зубатов с Ольгой не пошли на Загородный, а свернули налево, в сторону Сенной, и оттуда дошли по Николаевскому мосту до Васильевского острова.
Она крепко держала его за руку.
— Я родилась здесь и выросла, между ровных, как отрезанных ножом, брандмауэров до неба, на брусчатке гулких узких дворов. Когда я была маленькой, мой отец еще не зарабатывал много, и мы не могли позволить себе никого, кроме приходящей кухарки. Никто не надевал на меня шляпу, как у взрослых, и не вел за руку гулять в сад. Нам обыкновенно доставались квартиры на высоких этажах, я сидела на кухне на подоконнике и смотрела, как капли дождя пролетают мимо меня вниз, в темноту, освещенную пятнами качающихся фонарей. И, знаешь, сидя на этих подоконниках, я думала, что лучше ничего и быть не может, потому что ровно так и выглядит вечность, а есть ли что-либо прекраснее, чем сидеть на краю вечности и ощущать себя?.. Ты молчишь?
— Разве тебе нужно, чтобы я что-то говорил?
— Скажи, что в мире есть множество гораздо более красивых видов из окна, и я отвечу, что да, но все они отвлекают на себя. И только пятна фонарей в темной глубине двора позволяют остаться тебе один на один с собой. Поэтому, когда Егор говорит, что Петроград обманывает, завлекает и бросает, он лжет. Петроград не обманывает. Каждый обманывается сам. Мы пришли. Здесь я родилась. Я просто хотела тебе показать.
Двор на 6-й линии, в котором они стояли, был зажат четырьмя стенами, из которых только в одной были окна. Остальные представляли собой глухие брандмауэры невероятной, этажей в семь, высоты. Два дровяных сарая, единственные его обитатели, сиротливо жались друг к другу, как будто даже им было тут тоскливо. Из маленького неба вниз с огромной высоты падали капли и вдребезги разбивались о круглые булыжники.
— Не говори ничего, — сказала Ольга.
Продолжение следует.
Об авторе
Антон Мухин — петербургский политический журналист. Работал в «Невском времени», «Новой газете», «Городе812», на телеканале «100ТВ». Сотрудничал с «Фонтанкой.Ру», «Эхом Москвы», «Московским центром Карнеги».
В настоящее время работает в «Деловом Петербурге»
Автор книги «Князь механический».
















