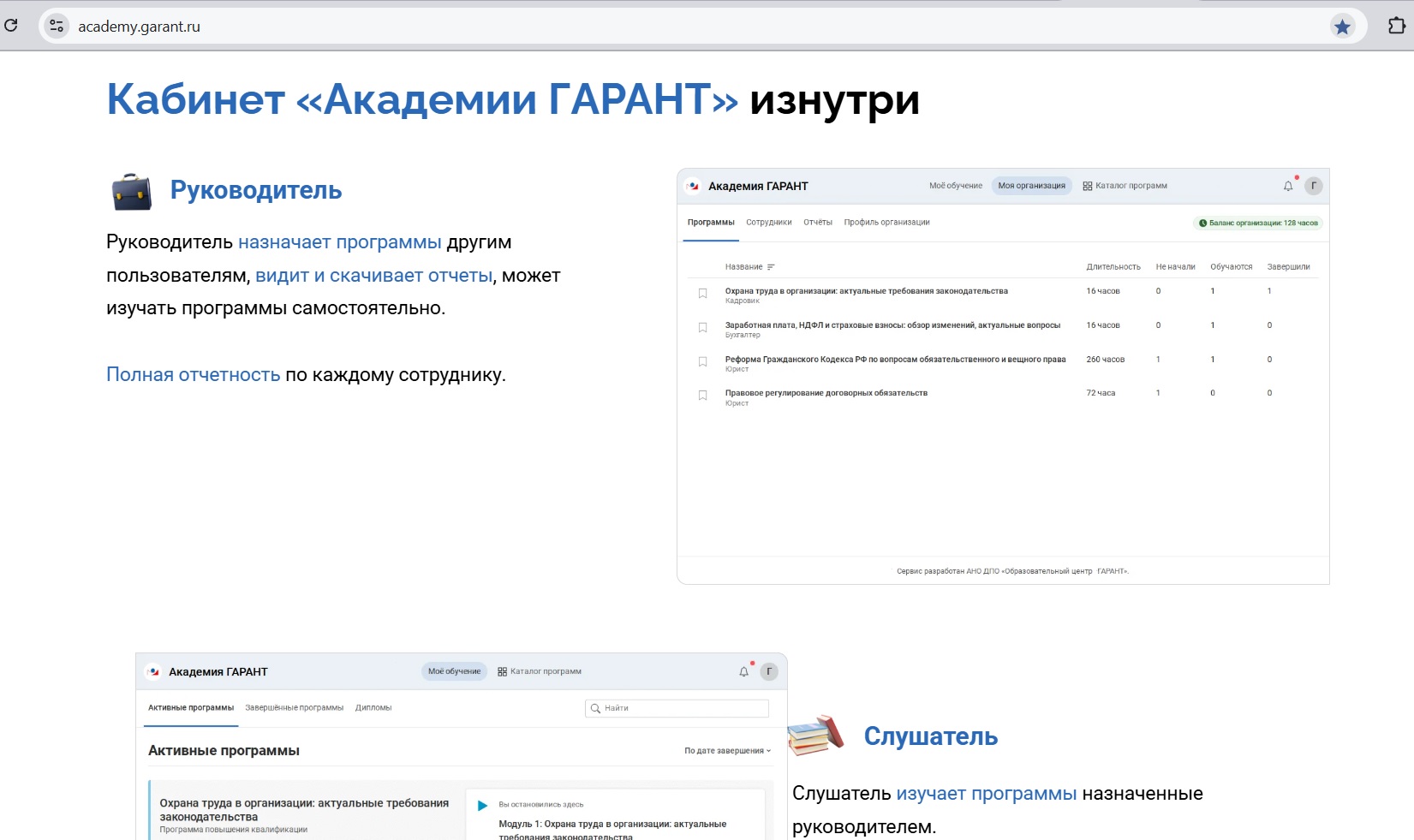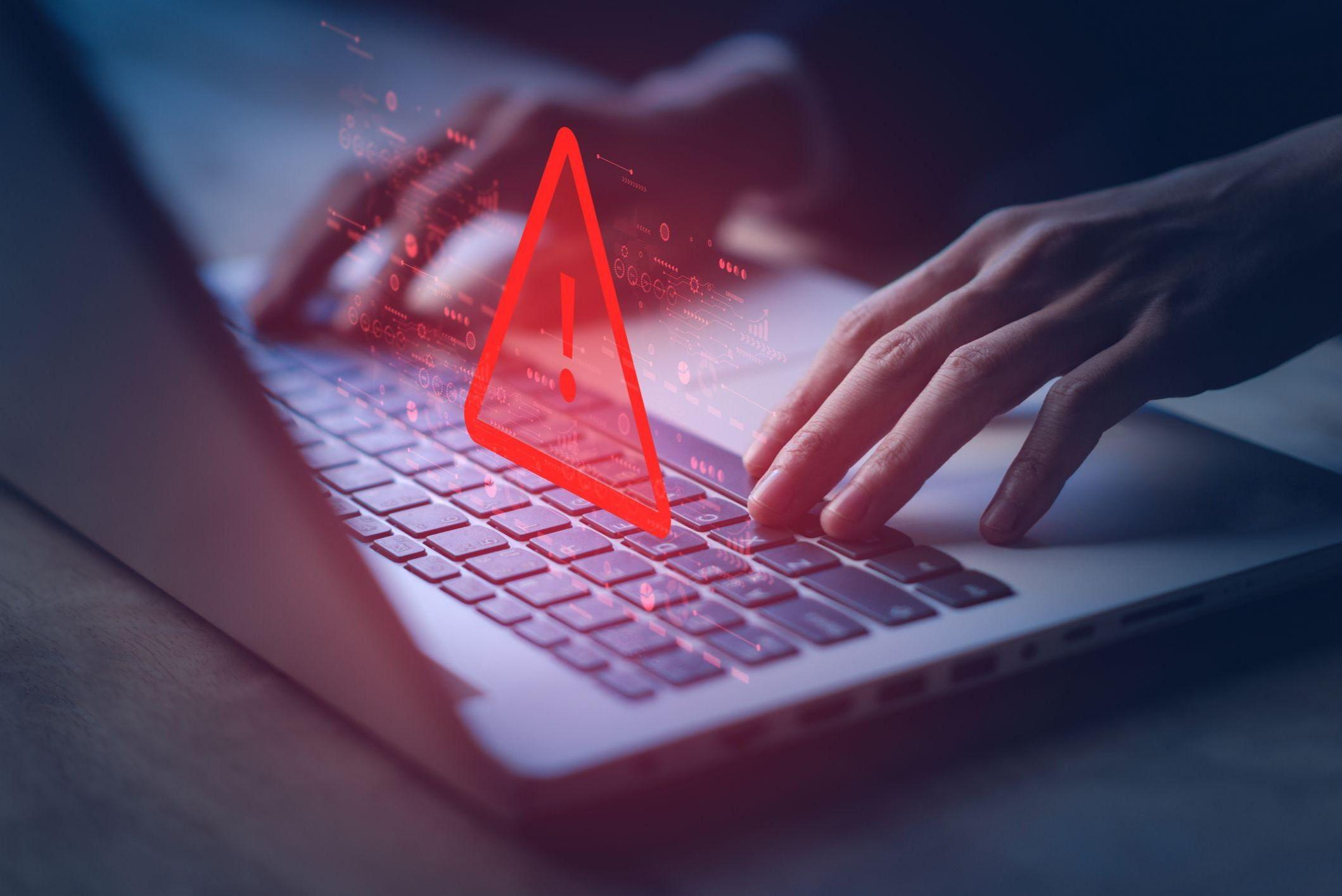Ровно 30 лет назад начался так называемый путч ГКЧП. Спустя три дня началась новейшая история России, в которой мы живем сейчас. Нынешние руководители «Фонтанки» оказались тогда в похожих положениях наблюдателей. Они смотрели на драматические события августа 1991 года практически с одной точки, но видели все очень по-разному.
Заместитель главного редактора «Фонтанки» Евгений Вышенков. В 1991 году — капитан милиции, опер.

Силовики на тот момент делились на три категории: МВД, точнее ГУВД — это примерно около 20 тысяч человек, КГБ — где-то 800 человек, и внутренние войска — сейчас это Росгвардия — которые подчинялись МВД. На Халтурина воинская часть и дивизия Дзержинского на Лермонтовском. Это срочники, их было 4–5 тысяч. Вот весь силовой блок — от 25 до 30 тысяч человек. Это сотрудники силовых ведомств, носят форму, имеют погоны и абсолютно все вооружены. Минимум пистолетом Макарова, а максимум — в дежурных частях есть автоматы Калашникова и тяжелые пулеметы. Не говоря уже про бронежилеты, дубинки и прочее.
То есть мы имеем силищу, которая может кого угодно защитить и кого угодно разогнать. И, когда происходят подобные события, все, кто носит погоны, ждут какого-то приказа: мы-то что будем делать? Мы же легионеры.
Что происходило в ГУВД — я подразумеваю управление уголовного розыска. Когда различные отделы начали утром собираться, после вопросов «Что происходит» все у своих руководителей стали спрашивать — что же им делать, считая, что сейчас дадут некие команды.
А вот что произошло. Руководство среднее и высшее ничего не предпринимало и команд никаких не давало. Почему? Потому что сами не понимали, что делать. И пошла команда вниз: у кого есть право на ношение оружия 24 часа — оружие сдать. Второе — в моем, по крайней мере, подразделении было сказано: найти по бутылке бензина или керосина. А нет, так водки. Держать это рядом с сейфом. И в случае, если кто-то будет захватывать подразделение, обливать агентурные дела — личные дела агентов и доверенных лиц — и к чертовой матери все уничтожать. Это было устное указание-размышление. Первое, что мы начали обсуждать между собой, — мы не за путч и не против. Но почему мы сдались до того, как все начало происходить? Кто мы вообще? После подобных разговоров в курилке я собрал оперов — у меня их было 10–12 человек — и еще группу человек 20 омоновцев, и мы пошли на Невский. Вышли просто и стали разговаривать с жуликами, фарцовщиками. И никакого понимания мы не нашли. Потому что тем, кто жил подпольной жизнью на Невском проспекте, были абсолютно до фонаря все политические новости. Они занимались своей жизнью. Кто-то скупал валюту у иностранцев. Кто-то ломал какие-то деньги, кто-то впаривал какой-то ширпотреб. Люди занимались своим бизнесом — жизнь шла своим чередом.
Часть ребят пошла посмотреть, что происходит на Халтурина — рядом с Эрмитажем, где располагались ВВ-шники. Они же, в отличие от нас, цепные псы. Все вооружены, строем ходят. Пришли оттуда ребята и говорят: «А там ничего. Ворота закрыты, как всегда, тишина». То есть фиксируем, что внутренние войска были в казармах, судя по всему, в точно таком же состоянии «А хрен его знает».

Дальше надо понимать, что штаб ГУВД находился на Литейном, 4. Первые три этажа — ГУВД, руководство и управление уголовного розыска. А с третьего по восьмой этажи был Комитет государственной безопасности. Между третьим и четвертым этажами была дверь, разделяющая нас.
Мы начали спрашивать сотрудников КГБ — там всегда кто-то кого-то знает, может кому-то позвонить: «У вас-то чего? Вы-то что?» 19-го числа ответы можно было сформулировать так: «Правильно сделали, что Горбача прикрыли в Форосе. Развалил страну и так далее. И вообще сейчас наведут порядок». Это сублимация их ответов 19 августа. Понятно почему — с 88–89 года КГБ было растеряно. Все, на что оно влияло, от чего все трепетали, стало можно — говорить, читать, писать. Они растерялись. И вот наконец-то наступает порядок. Их ответы были такие — с подтекстом. Мол, сейчас, подождите, разберемся. Но мы не понимали: а что вы, собственно, делаете-то? Потому что мы прекрасно знали, что у них достаточно сил и средств, чтобы за 19-е число арестовать всю верхушку гражданской власти — Собчака, всех его замов, начальников комитетов. То есть это вообще не вопрос. Они сделали бы это часа за три. Опергруппы выехали бы, просто сгребли бы всех в кучу. У них было достаточно сил арестовать руководителей ГУВД и его замов и, если надо — кого угодно. Ну что там — зашел в газету «Смена», завернул пятерых человек, и все. К этому они были приучены, у них были силы, средства, руки помнили. И мы все обсуждали, что они могут просто парализовать весь город. Мы обсуждали это не с точки зрения, что мы были за или против. А просто все были в растерянности, и вот — сейчас гэбэшники всех скрутят. А ничего подобного — они сидели у себя с четвертого по восьмой этаж, что-то обсуждали, смотрели, очевидно, «Лебединое озеро». На седьмом этаже у них была столовая, и вот они там собирались как в актовом зале. То есть фиксируем, что, невзирая на их настроения, никаких действий и никакой воли не было ни у внутренних войск, ни у КГБ.
20-го же числа, когда началась вся буря, единственный, кто стоял на охране порядка, — это сотрудники ГАИ и патрульно-постовая служба. В первую очередь Адмиралтейского района. Просто отряды, которые интуитивно подтягивались к Мариинскому дворцу. Их было в три раза больше, но очевидно, что им было просто интересно. То есть, если бы спросили тогда какого-то сержанта, он бы так и сказал. Какие-то люди, какой-то путч, он на это просто смотрит, морды никому не бьет. Но фактически никто и ничего не делал.

И когда уже начинается победа, которая была вызвана абсолютным бездействием путчистов, а также активными гражданами Москвы и Петербурга, которые вышли и создали какое-то движение, — их было немного, но было понятно, что народ вышел. Собчак очень решительно поступал. Я думаю, он больше всех рисковал. Если что, он был бы виноват. Ну и журналисты — кто-то что-то писал, на радио прорывались. Вот эти люди и были антипутч. Ни у одного из них не было оружия. Ни один из них не был подготовлен для каких-то боевых действий. То есть это просто были гражданские люди, которых можно было — рыкни — и вроде бы упадут. Но погоду делали именно они. А вокруг находились десятки тысяч вооруженных людей, которые, дай им команду разогнать всех на Дворцовой площади, да в 10 минут уложились бы. Дай им команду защитить от кого-то — в десять минут бы расставили силы и средства, и ни одна мышь бы не прошла.
Очень интересно, как реагировал КГБ, — я это доподлинно знаю, сам разговаривал с этими людьми. Они когда поняли, что путч проигран, абсолютно искренне считали, что сейчас оперативники управления уголовного розыска по команде войдут к ним наверх и начнут их арестовывать. Они были абсолютно в этом убеждены. Что они сделали — и в этом случае это все же говорит о профессионализме госбезопасности. У них на первом этаже была специальная комната с печью для уничтожения секретной документации. Некоторые начальники подразделений дали команду своим сотрудникам собрать все документы по агентуре и уничтожить. Им эту команду не давали сверху, они сами ее родили. И вот стояла очередь сотрудников КГБ к этой печи. У них у каждого была пачка из примерно 10 папок. И они все их безо всяких актов об уничтожении сжигали.
Ирония и пафос этой истории в том, что начинается она с того, что оперативникам говорят готовить бензин, а заканчивается тем, что госбезопасность сама решает сжигать агентурные документы. И вот это — атмосфера. И она удивительна тем, что мы говорим про людей, которые могут сделать все что угодно хорошее и все что угодно плохое.

При этом я видел человека, который был готов реально воевать с танками и гибнуть за демократию. Дело было так. Мы пришли в гостиницу «Астория». Это было такое место… дорогая гостиница, туда с улицы заходить было не принято. А мы же крутые. Зашли туда, а там сидело человек четыре-пять воркутинских. Это были такие высокие красивые парни — все боксеры. Они уже контролировали «Прибалтийскую» и подходы к ней, у них уже были точки по городу. Воркутинская группировка себя уже поставила.
Когда они увидели нас в «Астории» — «привет-привет». И один воркутинский задает вопрос: «Женя, привет, а по какой улице пойдут танки?» Я начал отвечать, мол, где я, а где танки, но он настаивал: «Ну брось, вы же опера, вы все знаете». А мы вообще ничего не знаем — ни указов, ни приказов. А потом спрашиваем, а зачем им это надо. И получаем ответ: «На Якубовича у прокуратуры у нас стоят две машины, там «железо» и два гранатомета («железо» — это автоматы Калашникова. — Прим. ред.). Если ты узнаешь, как пойдут танки, у нас есть парень — он в Афганистане воевал. Он поджигает первый танк и последний. С остальными мы расправимся сами».
И вот я сижу в гостинице «Астория». Передо мной стоит воркутинский боксер, который четко мне говорит, где у него оружие, сколько людей, какой план действия. Такое впечатление, что мы присутствуем на совещании. Ну мы посмеялись тогда и разошлись. Но я помню такую свою эмоцию. Я иду и вдруг для себя формулирую, что в городе Ленинграде я вижу одну силу — есть какие-то студенты, я что-то про Собчака слышал, какой-то активный народ, который какие-то смешные баррикады делает, расставляет стулья, чтобы не прошли танки, но реальная сила — только эти воркутинские. И если сейчас зайдут танки, а я был бы человеком, который принимает решения, то я бы отправил туда воркутинских, и они бы справились со своей задачей.
Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. В 1991 году — корреспондент газеты «Смена»

19 августа я проснулся в 7 утра, когда мне позвонил один знакомый и сказал включить телевизор. По телевизору шло то, что всем известно, — балет «Лебединое озеро». Я поспешил в редакцию газеты «Смена», до которой было 15 минут пешком. Дальше весь день и, наверное, большую часть ночи я пробыл там. Разумеется, я был и у Мариинского дворца. Мы пытались восстановить картину того, что происходит в стране, и получить хоть какую-то информацию. Более того, нам удалось в тот день выпустить газету без цензурных пятен. Ведь, как известно, ГКЧП объявил о введении цензуры, и большинство газет вышли в знак протеста с белыми пятнами. Цензоры где-то в «Лениздате» были, но мы их не нашли. Мы хотели с ними предметно поговорить, но не обнаружили их и опубликовали в газете все, что захотели, в том числе и заявление Верховного Совета и Ельцина. И другую альтернативную информацию, а не то, что приходило по лентам ТАСС.

Дело не в том, сыграли ли какую-то роль в те дни медиа. Хотя, безусловно, определенная роль у них была. Я никогда ни до, ни после не видел, чтобы газеты рвали из рук. В ночь на 20-е число мы привезли свежеотпечатанные пачки газет к Мариинскому дворцу, где собралась огромная толпа людей. И эти газеты буквально выхватывали и рвали из рук. Наверное, никогда ценность печатного слова в обозримые десятилетия не была так значима и так велика.
Там были совершенно разные люди. Разных профессий, разного социального статуса. Хотя тогда и не было такого расслоения, как сейчас. Разных возрастов. Там были и инженеры, и рабочие, и учителя, и молодежь. Это был весь срез общества.

В ночь на 22-е число я позвонил первому секретарю обкома партии — это как нынешний губернатор, только больше — Борису Вениаминовичу Гидаспову. По домашнему номеру. А его супруга сказала, что он уже спит. Это было где-то в девять часов вечера, и я сказал: «Как это так, разбудите его, я хочу с ним поговорить». И он подошел к телефону. И я его спросил: «Как вы вообще предполагаете, как это все будет дальше?» У меня с ним вышло тогда мини-интервью. Представить себе сейчас такую ситуацию в Петербурге или в любом другом регионе практически невозможно. Мне уже тогда было понятно, что он не представляет никакую силу и от него ничего не зависело. Хотя кто-то тогда, возможно, думал иначе.
Сейчас много споров, кто развалил Советский Союз: ГКЧП, Горбачев, Ельцин, американцы, инопланетяне. Но Советский Союз умер потому, что огромное количество людей в стране не хотели жить по-прежнему. Другое дело, что у них не было ответа на вопрос, а как правильно жить. Что надо делать? И власть оказалась у не всегда добросовестных людей, которые думали не о будущем страны, а в первую очередь о своем будущем и о своем благосостоянии. Но это уже другая история.
Все, что тогда происходило в городе, многократно описывалось. Огромное количество людей у Мариинского дворца. Туда был свободный проход, не то что сейчас. Люди забегали туда, организовывались в какие-то отряды самообороны, думали строить какие-то баррикады вокруг, чтобы помешать подъезду военной техники, которая, по слухам, двигалась по направлению к городу. Она действительно двигалась. Но не дошла.
Смешно было бы пытаться остановить военную технику какими-то подобиями баррикад, сооруженными из ближайших скамеек, урн и чего-то еще. Если бы техника дошла, думаю, события приняли бы другой оборот.
Но совершенно очевидно, что военные люди тоже не хотели жить, как прежде, не имея ответа на вопрос, как надо жить. ГКЧП и те, кто попытался организовать эту контрреволюцию, — у них не было воли. Это их и сгубило. У них не было ни воли, ни четкого плана действий.
Я бы отметил главное — то, что объединяло очень многих людей в те дни. Они перестали бояться. У них пропал страх, свойственный поколениям советских людей, и тот страх, который впитывался с материнским молоком. Люди в одночасье перестали бояться. Можно вспомнить митинг на Дворцовой — невиданный ни до, ни после. На нем было, может, 100 тысяч, а может, и больше — была заполнена вся площадь. Там выступал Собчак, председатель Ленсовета Беляев, другие люди с импровизированной трибуны — грузовика, который стоял прямо возле Эрмитажа. Огромное количество людей, переставших бояться, пришли на эту площадь. Они приходили до этого к Ленсовету или к Белому дому. Не в защиту Ленсовета или Белого дома. Ленсовет был странным образованием, как и Верховный совет. Хотя и действительно выбранным. В отличие от выборов, которые были потом. Ну, может, не считая выборов 93-го и 95-го годов. Дальше выборы приобретали все более и более контролируемый характер и пришли к тому, что мы имеем сейчас. Тогда это был действительно выборный орган, несмотря на все свои странности и особенности.

Мечты многих людей о лучшей жизни не сбылись, но это не вина этих людей. Это вина тех, кто оказался у власти и, по большому счету, использовал ее в своих интересах.
Я уверен, что, если бы к этим людям кто-то вышел и цыкнул, они бы не разбежались. Было отчетливо понятно, что люди перестали бояться. А это очень важно. Они чувствовали за собой моральное право и моральные силы. Зачастую это оказывается сильнее оружия. Поэтому не думаю, что если бы пришел сержант, десять сержантов или сто, то тысяча людей у Мариинского дворца бы разбежались и все бы успокоились — нет.
По крайней мере, разговоры о том, чтобы всерьез воевать с силовыми структурами, шли. Потому что были люди, имевшие определенный опыт, например, в ходе событий в Вильнюсе января 1991 года. Они защищали там здание литовского Сейма. Были люди из, как это теперь принято говорить, братвы, которые были готовы выступить против прежнего режима. Ходили слухи о том, что есть люди с оружием. Хотя я думаю, что если они и были, то их было абсолютное меньшинство. Главное для людей было — их моральная сила, превосходство. Они не хотели больше унижаться, стоять в очередях.
Мало кто думал, что изменится завтра. Осмыслить происходящее тогда не хватило ни времени, ни сил. Не хватило моральных авторитетов в стране. Моральных лидеров, которые могли бы выступить неким камертоном. А роль прессы начала быстро — в течение пары-тройки лет — сходить на нет. Мы не умели жить в новых условиях, в рынке. Никто не понимал, кроме нарождающихся коммерсантов, как зарабатывать деньги.
Мне в тот момент казалось, что страх больше не вернется. Теперь я понимаю, что я ошибался. Но история нашей страны циклична. И в России надо жить долго. Поэтому я бы не стал говорить о поражении тех идей, к которым люди шли тогда.
Уже 21-го числа было абсолютно очевидно, что мы победили. Тогда же корреспондент «Смены» Георгий Урушадзе сумел дозвониться до Горбачева в Форосе. Стал первым, кому удалось поговорить с ним извне в те дни. После этого стало понятно, что на этом все.
Честно говоря, стало понятно, что и той страны, в которой мы жили, уже нет. Союзный договор, который готовил Горбачев, оказался уже никому не интересен. Республики одна за другой стали объявлять о своем суверенитете. И последующие беловежские соглашения стали лишь закреплением той константы, которая уже сложилась.