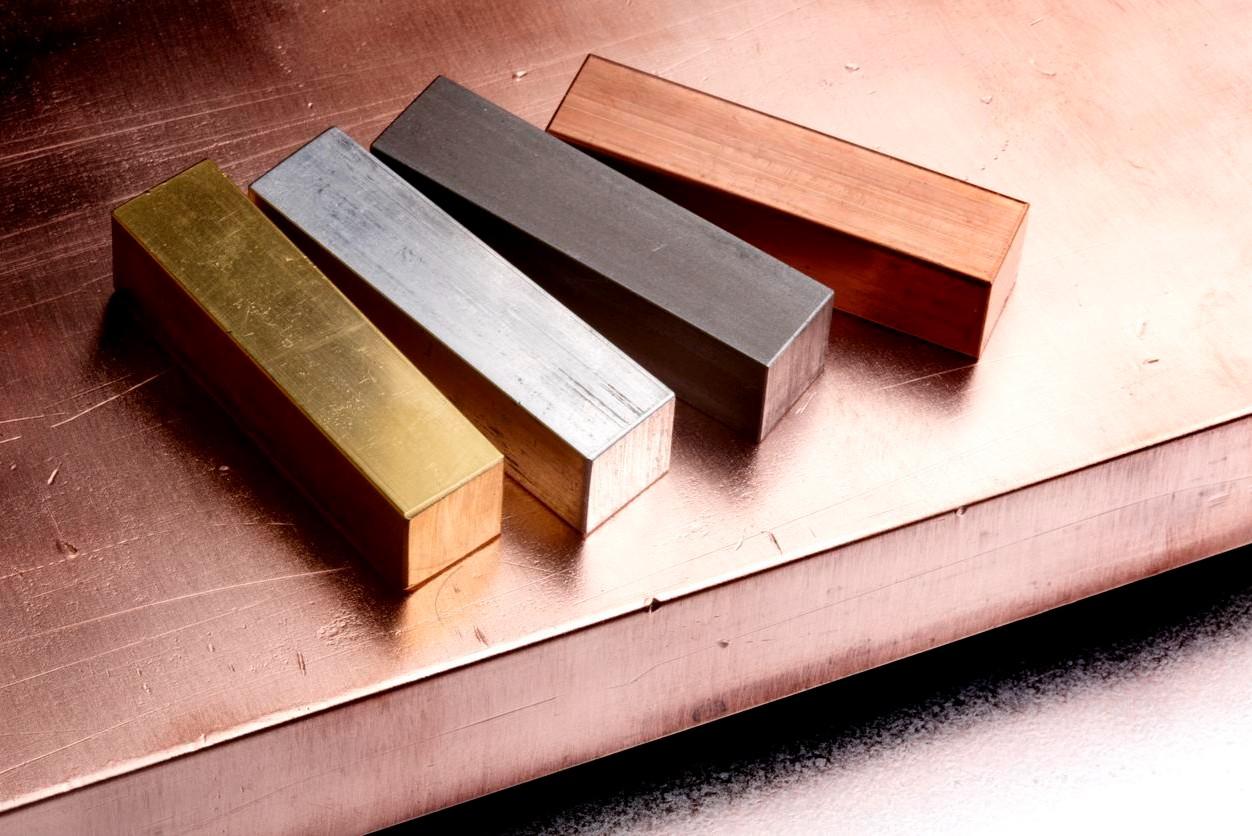Художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова — о том, как жить в меняющемся мире, почему большой художник — человек неудобный, а спектакли о любви актуальны всегда.
В Петербурге на основной сцене Александринского театра до 1 апреля идут гастроли МХТ им. А. П. Чехова, которым руководит Константин Хабенский. В Петербург приехали три последних премьеры театра, в одной главную роль сыграл сам худрук. На одну из премьер, самую свежую, еще можно попасть 31 марта и 1 апреля — это спектакль «Сирано де Бержерак» в постановке главного режиссера РАМТа Егора Перегудова, где главные роли играют Юрий Чурсин, Паулина Андреева, Игорь Золотовицкий и Кузьма Котрелев. В разгар гастролей «Фонтанка» встретилась с Константином Хабенским и поговорила о том, в чем суть театра, как искать в творчестве сверхидею и почему кризис в обществе всегда приводит к аншлагам в театрах.
— Константин Юрьевич, вы сейчас в родном городе на гастролях, а спектакли МХТ «примеряют» другую сцену. Есть такое понятие — «дух театра». У Александринки и МХТ они, наверное, различаются. Как бы вы их сравнили?
— Даже в одном городе у каждого театра, который из себя что-то представляет как театральное явление и периодически «выстреливает» теми или иными удачными постановками, разный зритель. И этот зритель, по большому счету, помогает: создает, направляет, оберегает этот дух театра, который присутствует на театральных подмостках. И всегда очень сложно честно работать на другой площадке, не подстраиваясь под ее зрителя.
— Вот как? Именно «не подстраиваясь»?
— Не подстраиваясь. Всегда очень сложно честно показывать свой материал. Бывают удачные шутки или неудачные, долгие паузы или короткие, очень трагичная постановка или среднетрагичная. И показать именно то, как ты делаешь это дома, со своим зрителем, зрителю другого театра — очень важно. Если зритель это принимает — предположим, зритель Александринки (я понимаю, что на гастролях он более смешанный, но всё равно зритель Александринки так или иначе приходит смотреть), — значит, дух един. Мне тяжело заходить в театр и подстраиваться под личности, которые здесь работали, создавали. Так у меня ничего не получится. Поэтому при всем уважении и понимании значимости людей, которые служили в том или ином театре, мы всё равно приходим со своим языком, своим настроением, своей театральной правдой.
— Вы выходите на сцену в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», и вы же — соавтор спектакля. Почему вы переписали пьесу Горина, известную по фильму «Тот самый Мюнхгаузен»? Что вы хотели добавить как автор?
— Мы вообще ничего менять в горинской пьесе не собирались. Из фильма мы взяли только имена, для того чтобы зрителю было понятно: кто есть кто, кто кому друг, кто кому враг. Причем я еще раз скажу: взяли только имена, не характеры. Это важно: характеры — наши, придуманные. И все истории сочинены по рассказам Распе и по разным историческим документам, связанным с тем самым бароном Мюнхгаузеном: по историческим справкам, судебным и так далее — того времени. Поэтому мы к пьесе Горина даже не приступали. Мы, естественно, ее прочитали и поняли, что она была настолько хороша для того времени — прозрачная, неоднозначная, как тогда и возможно было снимать и ставить, — что сегодня она бы, наверное, так мощно и ярко не прозвучала, как прозвучала тогда. И мы с Виктором Моисеевичем Крамером решили, что напишем свою историю, самостоятельную, со своей интригой и сюжетом. И вот мы ее привезли.
— А какая-то сверхидея, которую хотелось донести до зрителя, тоже, наверное, теперь другая?
— Сверхидеи приходят уже в процессе создания, фантазии, в процессе репетиций, а иногда даже уже и после премьеры. Вдруг неожиданно приходит сверхидея, о которой ты даже и не думал. Что значит «завещание» в названии этого спектакля? «Завещание» — это или нотариальный документ, или что нам завещал человек: как жить, любить, фантазировать. Наверное, в нашем спектакле есть обе части. Когда мы говорим о персонажах с приземленной фантазией, для них эта история — о завещании нотариальном. А сверхидея спектакля — это завещание, как жить. Как жить в этом мире с постоянно меняющимися обстоятельствами, с этим опытом — сладким, горьким, радостным, трагическим, который каждый из нас несет по жизни. Как можно жить в таких условиях? Нужно создавать свои миры!

— А было ли в роли барона Мюнхгаузена что-то новое для вас, и приходилось ли делать что-то такое, чего не приходилось раньше?
— Знаете, если делать всё то, что делал раньше, и никуда не заходить — выше, правее, ниже, тогда не надо и приступать. Каждая роль — в кино или театре — это всегда что-то новое. Я уже не говорю про новый текст — я говорю про новые смыслы. Вот, например, один наш коллега заметил, что в спектакле «Калигула», который я работал здесь в Театре Ленсовета, герой очень хотел Луну. А сейчас мой герой говорит: «Нет, на Луну мы всегда успеем, летим дальше, летим на Юпитер!» Вроде бы просто текст, но если не суетиться и какие-то вещи рассматривать как знаковые — в твоей судьбе или твоих товарищей, — тоже открывается что-то новое.
— Для чего театру гастроли? Понятно, что это удобно для зрителей, а какую пользу получают театр и артисты?
— Вообще театр изначально придумывался как повозка, которая ездила по деревням, по городам, по ярмаркам, и актеры устраивали представления. Веселили, скабрезные шутки, довольно актуальные, «выплевывали» в народ. Такова структура и правда театра. В разные места ездили — желательно, чтобы единый язык был, но иногда не получалось: если заезжали в какие-то племена людоедов, то их съедали. А если вдруг играли хорошо, то их превращали в богов или полубогов, и на них молились. Изначально театр таким был. Поэтому театр на гастролях — мобилизуется, обогащается, отдыхает или, наоборот, страдает от непонимания. Ему это необходимо, как глоток воздуха, потому что «вариться» всё время со своим зрителем на своей площадке, даже выпуская премьеры, — немножко однообразно. Поэтому, в первую очередь, гастроли и нужны. И мы, кстати, с Валерием Владимировичем Фокиным уже договорились, что будем приезжать каждый год в течение пяти лет.
— То есть вас через год можно ждать?
— Конечно. Сейчас нужно просто четко обозначить сроки, количество спектаклей и что еще мы здесь делаем. Это же не просто гастроли, когда привезли спектакли и увезли. Это еще и проба привезти некую экспозицию музея МХАТ. Мы сначала хотели, чтобы это были реальные экспонаты, но потом поняли, что слишком мало времени для подготовки, и создали выставку в виртуальном формате, посмотреть которую можно по QR-коду в программке к каждому спектаклю. Поэтому зритель, который придет в Александринку, сможет «побродить» — до спектакля или в антракте — по основным вехам Московского художественного театра и понять, какова его история. Кроме того, мы проводим встречи закрытого типа со студентами с Моховой. Это четыре творческих встречи часа на полтора-два — их ведем я, Игорь Верник, Дмитрий Назаров и Игорь Золотовицкий, у каждого своя тема. Разговаривать со студентами, а точнее с будущими коллегами, о профессии, о жизни — полезно и тем и другим. Сейчас проверим, как это работает. Если работает хорошо, на следующий год, как говорил один наш лидер, «углубим и обострим». А то, что касается программы нынешних гастролей, — тут мне даже не за что отводить глаза, потому что мы привезли три премьеры именно этого сезона. И последняя премьера — «Сирано де Бержерак» — состоялась неделю назад. То есть еще и москвичи практически не успели посмотреть, а мы уже сюда привезли.
— Представляете, какую планку вы себе задали на следующий год?!
— Это нормально. Главное, чтобы она реализовалась в этом году. А выше идти — тяжело, но радостно; ниже идти — легко, но грустно.
— Вы разговором о студентах предвосхитили мой следующий вопрос. Вы же из «фильштов» — Вениамин Михайлович [Фильштинский] придет на ваши спектакли? Заходит ли он к вам обычно в гримерку, советует ли что-нибудь?
— Он всё время приходит, и в этот раз тоже. Обязательно заходит, общаемся, разговариваем.
— Пришлось ли из-за вынужденной замены спектакля с Литвиновой на «Сирано» срочно что-то перестраивать, срочно отправлять грузовики с декорациями, снимать артистов с других постановок или, может быть, съемок?
— Нет, так как сейчас «пандемийное» время, непростое, и много замен, переносов, отмен, мы были готовы к тому, что в Александринке состоится не всё, что мы анонсировали. У нас был готов план, и план шикарный: привезти премьеру, свежую-свежую — прямо «из печи»! Нас пандемия научила: ты себе строишь план «А», потом корректируешь в план «В», а жизнь тебе устраивает план «С». И, мне кажется, этот довольно серьезный опыт чему-то нас да научил. Поэтому у нас всегда есть и план «А», и план «В».
— Почему в такую трудную пору театр решил обратиться к такому эскапическому сочинению о любви, как «Сирано де Бержерак»?
— У меня даже вопросов не возникает по этому поводу, потому что настолько шикарный материал — его можно просто слушать! А еще и правильная сценография сделана, я люблю такую: многофункциональную, лаконичную, красивую. И Юра Чурсин в главной роли — прекрасный, блестящий. И сейчас постановка с каждым спектаклем всё больше и больше набирает поэзии. Вы знаете, в любое время рассказ о любви, если он честный, рассказ о смерти, о дружбе — всегда нужен. Иногда делают вид, что не нужен. Но если ты «попадаешь» точным рассказом в зрителя — он «поднимает руки». Какие бы видеопроекции или новые формы ни придумывались, какие бы иммерсивные, мобильные новые театры ни создавались: если они не говорят о человеке, если они не говорят про тебя — они не так хороши, как театр, который говорит про человека.

— А вы сами когда-нибудь писали стихи?
— Ну да, по-моему, в юности.
— Вам тогда было хорошо или плохо? От счастья они рождались или от боли?
— Молодые люди, насколько я успел заметить, всегда пишут трагические стихи. И молодые актеры, студенты, всегда выбирают себе очень драматические роли. Но это не болезнь, это такой период юношества, прекрасного, когда ты очень драматичен по отношению к миру и к себе.
— Классический романтический герой.
— Да, да. Потом это проходит. Потом ты хочешь играть комических старух.
— О, это уже ко мне!
— Ну, и ко мне тоже. Так что это был трагический период в моей жизни, или я себя осознавал как недопонятый человек в этом мире. Но это нормально.
— В спектакле «Сирано де Бержерак» задействованы студенты Школы-студии МХАТ, на сайте театра говорится, что спектакль «прорастает зонгами» — будут ли это сюжетно современные вставки?
— Да, это современные вставки, там живая музыка, живые инструменты, совершенно разножанровые зонги — и рэп, и романсы, и всё в поэзию Ростана вплетается. Даже стихи Евтушенко туда очень удачно встали, они сейчас очень «про нас». Но это не «перевешивает», на мой взгляд: было бы неправильно туда «напихать» и зонги, и поэзию других авторов, и тем самым заслонить само произведение. Там соблюден тонкий баланс, который работает и делает нашего «Сирано», МХТ-шного, — «Сирано» разных эпох. Это и костюмами, кстати, тоже показано — там они разного времени, что подводит разговор к тому, что будь то «Сирано» 2022 года, «Сирано» XIX века или «Сирано», условно, Каменного века, — всегда были такие люди, не приемлющие нелюбовь к жизни. Это не всегда приятные люди — и в пьесе это видно. Не всегда удобные люди. Но они являются камертоном для тех, кто хочет попробовать так жить. Это больно, это страшно, но это история больших поэтов. Они были, они есть, они будут. А большой поэт, как и большой музыкант, зачастую очень неудобный. Потому что у него нет границ в мироощущении. У него есть музыка, есть поэзия, есть что-то большее, чем обычные столбы, которые маркируют границу между государствами или между людьми. Это история большого поэта.

— Хочется, чтобы выходили спектакли, в которых те молодые люди, которые сейчас так горят за будущее нашей страны и общества, узнали себя, услышали мысли, созвучные своим.
— Я понимаю.
— И в анонсе говорилось, что режиссер спектакля Егор Перегудов хотел привнести энергию, в том числе протестную, молодого нового мира. Есть там такое?
— Предостаточно. Дело же не в том, молодой ты или не молодой. Дело в том, как ты внутри себя чувствуешь. Ещё со времён тургеневского романа «Отцы и дети» обозначился этот извечный вопрос, когда молодежь не согласна с тем, как живут уже состоявшиеся поколения. Может быть, это и есть двигатель театра, литературы, музыки и всего-всего — протестное состояние молодежи, входящей в сферу искусства.
— Ну, это мы, конечно, любим себе говорить, но на самом деле, на практике, мы уже... не то чтобы «уставшие», но… более аккуратные, что ли.
— Более аккуратные. Но то, что ты почувствуешь, придя в театр, как ты к увиденному «подключишься», не зависит от того, молодежь на сцене или «жгут» старики. Тут же важна интонации, энергия. Может быть, где-то недосказанность, а где-то — очень мощное и яркое слово. Поэтому если говорить о том, что сейчас все переживают (по-разному, но переживают, я это прекрасно понимаю), то каким-то объединяющим местом должен стать театр. Театр — это то, что происходит вживую и только сейчас. Завтра будет по-другому, вчера было по-другому. И это такой обмен энергией, который был, есть и будет, в отличие от телевизора, от киноэкрана. Это такая сегодняшняя правда. Пускай сказанная другими текстами, другими авторами — современными ли или уже ставшими классиками, по сей день воспринимаемыми как современные. Не все театры могут похвастаться этой живой правдой — это нормально. Но недаром в любые кризисные времена наблюдается большой аншлаг в театрах, именно в театры идут люди. С чем это связано? Наверное, с тем, что очень хочется два-три-четыре часа побыть, может быть, с самим собой, а может быть, с какой-то правдой, которая витает в пространстве зрительного зала. Потому что такого уже не повторится. Завтра будет то же название, но уже другой зритель, другая энергия, что-то другое.
Беседовала Алина Циопа, «Фонтанка.ру»