
Об обстоятельствах отъезда поэта, трагедии его семьи и о том, как он сохранил русский язык в эмиграции, «Фонтанке» рассказали очевидцы и исследователи событий.
50 лет назад, 4 июня 1972 года, в ленинградском аэропорту сел в самолет Ленинград — Вена поэт Иосиф Бродский. Он покидал родину навсегда. Будущий лауреат Нобелевской премии по литературе не издавался в своей стране, его судили за тунеядство, он побывал в ссылке, ему отказывали в праве называть себя поэтом. В ОВИРе ему вручили визу и в принудительном порядке велели через две недели покинуть страну.
«Мы обнялись, думая, что прощаемся навсегда»
Михаил Мильчик, искусствовед, автор книг «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в фотографиях», «Венеция Иосифа Бродского» и других:
— 4 июня 1972 года погода в Ленинграде была хорошая, настоящее начало лета. А настроение было крайне нервное, взвинченное. Как у самого Иосифа, так и у тех, кто его провожал. Молодое поколение сейчас даже не может себе представить, что тогда отъезд в эмиграцию воспринимался как отъезд навсегда. Ни отъезжающий не мог вернуться, даже на время, ни провожающие не могли поехать его навестить. Поэтому прощание было страшно тяжелым, очень важно это понимать.
Утром я пришел к Иосифу домой пораньше, мы еще немного посидели, выпили чаю. Потом вышли из дома: я, моя жена, к сожалению, теперь покойная уже, и его близкий друг, физик Рамунас Катилюс. Напротив дома на стоянке такси стояла машина. Иосиф пошутил: «Вот, о нас Большой дом позаботился». Если вы знаете, такси в Ленинграде тогда было дефицитом, и обычно машины только успевали подъехать к стоянке — и их занимали, но уж точно не стояли там. По дороге попросили таксиста остановиться — Иосифу надо было опустить письмо в почтовый ящик. Я спросил: что за письмо? Иосиф ответил: «Это я прощальное письмо Брежневу написал». Сейчас это письмо, этот текст широко известен (https://izbrannoe.com/news/mysli/pismo-brodskogo-brezhnevu/).
В аэропорт приехали раньше, чем надо было. Собралось много друзей, человек 20–25. Все стояли, переживали. Друг Бродского, литератор Володя Марамзин, который активно занимался подготовкой стихов Бродского, чтобы они вышли до его отъезда (я в этом тоже принимал участие), сказал, что нигде не может найти стихов «К Цинции». «Какая ерунда, — сказал Иосиф, — давайте я сейчас напишу». И он взял у еще одного своего провожающего друга, тоже, к сожалению, уже покойного, геолога и художника Якова Виньковецкого записную книжку и начал писать. В это время его прервали — вышла сотрудница аэропорта и довольно громко спросила: «Кто здесь Бродский?» Это были последние строки, написанные поэтом на ленинградской земле. Он поднялся со скамейки, а мы еще с одним другом, фотографом Львом Поляковым, сказали: «Нет, ты подожди, мы снимки сделаем. Сядь на чемодан». Он действительно сел на свой чемодан, и мы сделали серию знаменитых снимков.
На досмотр вместе с ним пошел его друг, писатель Яков Гордин, — на тот случай, если у Иосифа могли быть какие-то вещи, которые не разрешили бы вывезти, Яков должен был их забрать. Но ничего такого там не было — мы прекрасно знали, что ничего «подозрительного» провозить нельзя. Поэтому рукописей не было, книг недозволенных не было.
Досмотр закончился. Мы обнялись, думая, что прощаемся навсегда.
Родители не поехали провожать Иосифа, им это было очень тяжело. В это утро они преимущественно молчали. Было видно, что у Бродского комок стоит в горле, что он еле сдерживается.

Несколько человек из близких друзей потом вернулись к ним после аэропорта, рассказать Александру Ивановичу и Марии Моисеевне, как всё было, им было очень важно узнать всё до мельчайших подробностей. Потом все ушли, а я остался и подробнейшим образом сфотографировал комнату, в которой еще был предотъездный беспорядок.
Никто тогда не подозревал, что советская власть кончится так скоро. Нам казалось, что это произойдет через много лет после нашей смерти, и это придавало особый драматизм всей ситуации.
Нас утешала только уверенность, что за границей у Иосифа всё будет благополучно. Там его уже ждали американские издатели, которые способствовали тому, чтобы он получил место профессора в Мичиганском университете. Он уже вскоре после отъезда начал преподавать и печататься. Иосиф всегда рвался увидеть мир, и своей свободой он воспользовался в полной мере. Драма была в том, что он больше не смог вернуться к родителям и на родную землю.
«Это история про бесчеловечность»
Павел Котляр, куратор музея Бродского в Фонтанном доме:
— После отъезда из страны Бродский больше не смог встретиться с родителями. 11 лет они, с двух сторон, делали всё, чтобы их встреча состоялась. Причем его родители не собирались эмигрировать, им это было не нужно, им надо было просто увидеть сына, встретиться в Америке ли, в Европе, всё равно. Они обивали пороги самых разных учреждений, ездили в Москву, отстаивали долгие очереди в ОВИР, писали личные письма Брежневу. Сам Бродский писал ходатайства и визовые вызовы. За него хлопотали его иностранные именитые друзья. Ничего не срабатывало.
Если рассматривать фотографии родителей Бродского, на которых они запечатлены после отъезда поэта, то видно, какой поддержкой они стали друг для друга. Старея рядом, они держались надеждой увидеть сына. Каждый год Мария Моисеевна и Александр Иванович праздновали день рождения Иосифа у себя и приглашали всех его друзей.
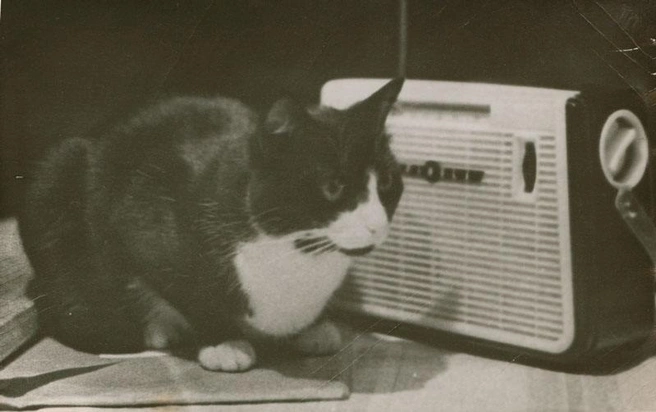
Есть большой соблазн усмотреть здесь злую волю какого-нибудь генерала КГБ, которого раздражал Бродский и который таким образом решил ему отомстить. Возможно, это и так. Но я боюсь, что скорее всего речь идет о системе. Бродский писал в своем эссе «Полторы комнаты»: «Система сверху донизу не позволяла себе ни одного сбоя. Как система она может гордиться собой. И потом, бесчеловечность всегда проще организовать, чем что-либо другое». Это история про бесчеловечность, про бюрократическую инерцию, про то, что с формальной точки зрения эта поездка была нецелесообразна для государства. Семья Бродских стала частью множества людей, пострадавших от этой безжалостной системы в СССР.
Известно письмо матери Бродского главе государства. Она пишет: «Мне 73 года, это последняя возможность увидеть сына…» И в конце: «Умоляю вас!»
Когда 17 марта 1983 года — через 10 лет после отъезда сына — умерла Мария Моисеевна Вольперт, отец Бродского написал властям последнее прошение. Он просил отпустить его на ПМЖ в США. Александр Иванович писал, что ему уже 80 лет, что три месяца назад умерла его жена и в связи с преклонным возрастом он нуждается в уходе. «Единственный человек, кто согласился оказать мне приют и необходимые условия существования, это мой Иосиф Бродский — гражданин США», — обращался он к властям. Трогательно пропущенное слово «сын» выдает старческое волнение. На эту просьбу тоже последовал отказ. 29 апреля 1984 года Александра Ивановича найдут мертвым в кресле перед телевизором в коммунальной квартире, в их «полутора комнатах». Так Бродский назовёт свой дом в знаменитом эссе, где опишет ту часть земной жизни, которую он прошёл с родителями бок о бок.
«Уехав из среды, где говорят по-русски, Бродский сам стал этим языком»
Денис Ахапкин, литературовед, автор книг «Иосиф Бродский после России», «Иосиф Бродский и Анна Ахматова»:
— В Ленинграде в начале 1970-х годов сложилась замечательная поэтическая среда, и это вообще, наверное, одна из лучших страниц русской литературы второй половины, а может, и всего ХХ века. Здесь жили и работали Елена Шварц, Виктор Кривулин, Михаил Еремин и многие другие прекрасные поэты. Но это всё-таки был андеграунд, без возможности печататься, без возможности найти широкого читателя. Оказавшись в Америке, Бродский все эти возможности обрел, хотя и ценой расставания с самыми близкими людьми и с родным городом.
Бродского всегда привлекала возможность увидеть Америку. Он говорил, что три великие вещи, которые дала Америка в ХХ веке человечеству, — это джаз, кино и поэзия. Он, конечно, мечтал увидеть их в оригинале. А его вместо этого вышвырнули из родного дома. Это как если вы мечтаете об отпуске, а вас вызывают и говорят: отлично, вот вы хотели на море слетать — собирайте чемодан, и чтобы через две недели вас здесь не было и больше никогда сюда не возвращайтесь. Понятно, что в итоге благодаря этому он выжил, и не только как поэт, но в том числе физически, потому что те операции, которые ему сделали на сердце в США, продлили его жизнь. Но это была очень тяжелая ситуация для него. И как вспоминают те, кто провожал его четвертого июня, его друзья, радости не было — было большое потрясение. Достаточно посмотреть на фотографии того дня — разве можно сказать, что этому человеку 32 года? Безусловно, он потом жил с этой дырой в сердце, и не только метафорической.

На родине остались его читатели, его литературная среда, здесь осталось самое важное, что он боялся потерять, — язык. И неслучайно он неоднократно рассказывал о письме, которое получил от Чеслава Милоша, замечательного польского поэта, тоже изгнанника, тоже Нобелевского лауреата, одного из лучших поэтов ХХ века. Бродский пересказывал это письмо так: «Бродский, вы теперь здесь, вы в отрыве от родной почвы, от родного языка. Многие, кто попал в такую ситуацию, замолчали, не смогли писать стихи. Может быть, это случится и с вами. Что ж, значит, это ваша красная цена».
Но в оригинале письмо Милоша было намного мягче, там нет ни слова про «красную цену», нет этого драматизма. То есть сам Бродский воспринимал именно так свою эмиграцию — как проверку на прочность.
То, чего он так боялся, не случилось, ему удалось продолжить писать по-русски. Его поэзия американского периода — это замечательный, мощный язык. Хотя на уровне сленга, на уровне каких-то просторечных конструкций, он остался на уровне 60-х — начала 70-х годов. Именно поэтому, уже когда начались в конце 80-х — начале 90-х массовые поездки советских людей за границу, он всех приятелей расспрашивал о том, как сейчас говорят в России. Есть известная история, рассказанная мне Петром Вайлем, когда Вайль рассказал Бродскому, что «поехать на общественном транспорте» теперь называется «ломиться на позоре». Я такого выражения никогда не слышал, не знаю, где Вайль его взял, но Бродский тут же вставил это в свое стихотворение: «И, чтоб никуда не ломиться заполночь на позоре, звезды, не зажигаясь, в полдень стучатся к вам» («Из Альберта Эйнштейна»).
Но, конечно, прежде всего поэтический язык Бродского базируется не на уличном разговоре, а на литературной традиции поэзии всего ХХ века, которую он перерабатывает, цитат из которой явных, скрытых, измененных, у него очень много. Бродский, уехав, довольно много сделал для популяризации русской литературы. Он писал предисловия к книгам русских писателей, он писал эссе, читал лекции, выступал перед университетскими (и не только) аудиториями. Но, по сути, русская литература не нуждается в популяризации, в советской власти, в ком-то еще. У нее свои проблемы, она живет, умирает и снова возрождается. Это нормальный литературный процесс.
Для Бродского русский язык был там, где Цветаева, Мандельштам, Ахматова, все те, кого он назвал в своей «Нобелевской лекции» «источниками света». Бродский, уехав из среды, где говорят по-русски, сам стал этим языком.
Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.















