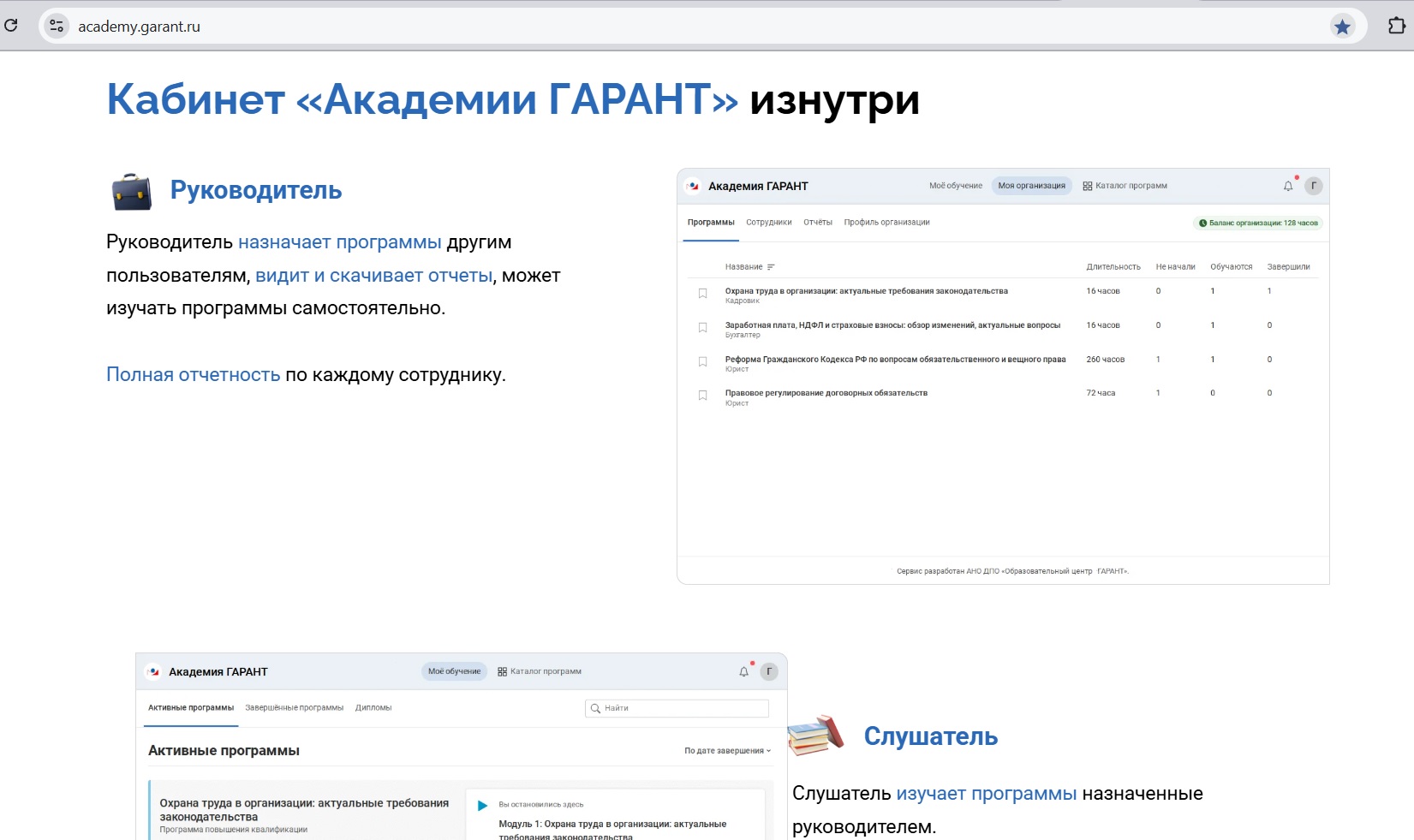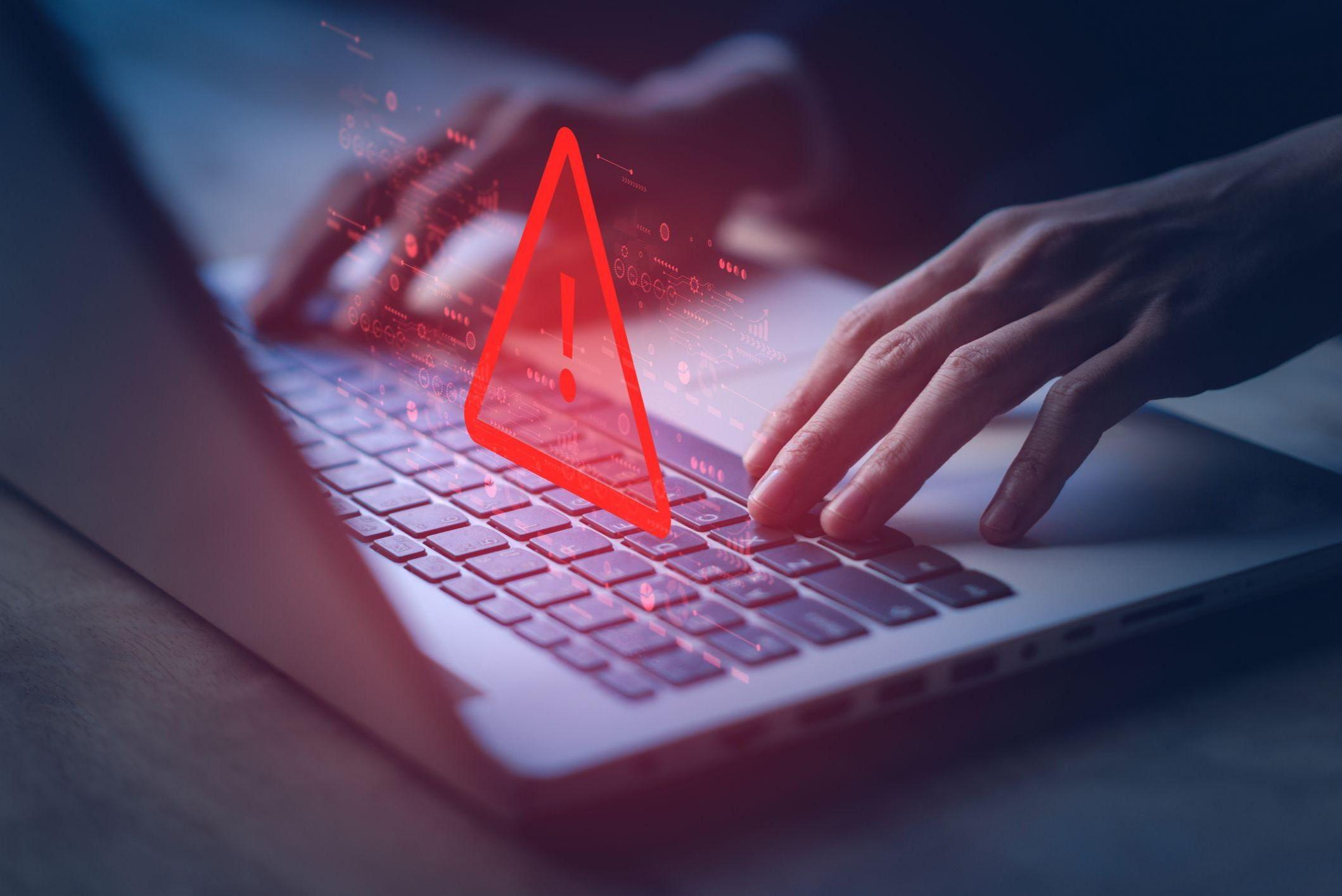В Малом драматическом театре поставили камерный, лаконичный, минималистичный и очень современный спектакль про две группы людей, на которые неминуемо распадается любое тоталитарное общество в момент катастрофы, и про то, чем обычно эта «поляризация» заканчивается.
Действие происходит в индийском городе Агра в 1648 году — то есть в год окончания строительства Тадж-Махала, с которым связано бесчисленное количество легенд, в том числе кровавых. Пьесу написал молодой американец индийского происхождения Раджив Джозеф в 2015 году. На русский язык она была переведена в рамках программы «Lark+Любимовка» — совместного проекта российского Фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и нью-йоркского Центра развития драматургии LARK (закрылся в 2021 году после 27 лет эффективной работы, не пережив пандемии).
Сюжет пьесы — расхожий и даже архетипический: идейное столкновение двух закадычных друзей в момент ключевого жизненного выбора. В обычных повседневных реалиях эти люди могли бы долго просуществовать вместе просто потому, что дружили с детства и считают друг друга братьями, но драматургия, как водится, обостряет ситуацию до предела. Молодые люди служат стражниками на строительстве Тадж-Махала и после явления народу этого чуда света должны отрубить руки архитектору и двадцати тысячам строителей, чтобы они никогда больше не смогли построить ничего подобного. После этого события мир, понятно, уже не может быть прежним.
В тексте пьесы — много эмоциональных подробностей, порой грешащих против вкуса. Она чересчур сентиментальна там, где речь идет о дружбе с детства сына большого военачальника и беспризорника из трущоб, и сами герои тут льют слезы, призванные вызвать слезу у зрителя. Кроме того, она чрезмерно кровава — в сцене после экзекуции автор текста предписывает визуализировать отрубленные руки и реки крови.
В спектакле артиста труппы МДТ Артура Козина, который выпускает уже пятый свой спектакль, но первый — в родном театре, физиология и эмоции максимально вычищены, а пьеса превращена фактически в интеллектуальную драму, в историю столкновения двух типов сознания, как выясняется по ходу пьесы — непримиримых: сознания, свободного от рефлексии по поводу выполнения приказов верховной власти (в данном случае — «наивысочайшего императора» Шах-Джихана), в чем бы они ни заключались, и сознания самодостаточного, полагающего любое действие, совершенное человеком, зоной его личной ответственности. При этом действие выстроено так грамотно и отчетливо, что возникает эффект напряженной интеллектуальной дуэли.

Начать с того, что, выбирая способ актерского существования, режиссер и два молодых, но уже довольно заметных в сильной додинской труппе артиста — Никита Каратаев (он только что сыграл Костю Треплева в «Чайке» Додина) и Никита Сухарев максимально ограничены в движениях: они стоят на посту по стойке смирно в первом эпизоде, лежат головами друг к другу поперек сцены в полном изнеможении во втором (после того как отрубили 40 тысяч рук), снова стоят на посту в третьем, в четвертом эпизоде, проходящем «в камере», куда один отправляет другого «за богохульство» (чтобы спасти от казни за более страшное по законам этой страны преступление — предательство Самого Императора), герои по очереди опускаются на колени. Наконец, в пятом на посту стоит уже только один из героев, а второй возникает в отдалении, причем рукава его пиджака висят вдоль туловища, пустые. И сценограф в данном случае не понадобился — всё, что требуется для создания пространства действия на крошечной камерной сцене МДТ, «нарисовал» с помощью разнонаправленных лучей софитов с разными цветовыми фильтрами художник по свету Василий Ковалев.
Первый эпизод — вводный, презентация героев и обстоятельств, условия задачи. Режиссер изрядно сокращает текст, оставляя только необходимые объективные детали. Герои излагают их, буквально «закованные» в свою «стойку смирно», предписанную священным обетом Моголии, который дает императорская стража. Говорить тоже нельзя, поэтому персонаж по имени Хумаюн, сын большого военачальника, герой Никиты Каратаева, цедит слова сквозь зубы, в частности сообщает, что «отец считает его тряпкой», поэтому ничего хорошего в плане карьеры ему не светит. А его друг-сирота, выросший в гораздо менее благоприятных условиях, смотрит на мир широко раскрытыми глазами и дышит легко и спокойно — надо сказать, что глаза у артиста Никиты Сухарева, исполнителя роли Бабура, действительно огромные и очень живые: в них, в отличие от испуганных глаз Хумаюна, нет страха, а есть любопытство и озорные искорки, выдающие в нем хулигана и мечтателя, и это от него мы узнаем минимальные подробности общего детства героев.
И это вся необходимая нам вводная информация, кроме той, что император сей условной Индии мнит себя выше и значимее бога, то есть мы имеем дело с типичной тоталитарной системой, для которой жизнь человека не имеет ровным счетом никакой ценности; про права, понятно, речи вообще не идет. Но заключительный момент эпизода эту выстроенную и растолкованную нам иерархию, в которой выше императора нет никого, отменяет. Точнее, отменяет её любопытство и бесстрашие Бабура, который, вопреки всем приказам и клятвам, не может не посмотреть на Тадж-Махал в его первое утро. Едва повернувшись, он падает на колени, и в это же мгновение прожектор поворачивается на зал. Так неожиданно реализована на сцене метафора ослепительной Красоты, которая в логике спектакля становится мерой всех вещей.
Когда свет снова появляется, герои лежат головами друг к другу, так что два их тела, вытянувшись одну линию, словно проводят черту под их прошлой жизнью. Бабур и Хумаюн только что отрубили сорок тысяч рук (Бабур рубил, Хумаюн прижигал культи), и всякий раз, когда они об этом вспоминают, пол в глубине сцены становится шершаво-красным, имитируя светом то «жуткое кровавое месиво», которое предписывает в этой сцене автор пьесы. Поначалу, чтобы не думать о самом страшном, герои затевают привычную игру: придумывают невероятные футуристические изобретения, вроде самолетающего аэроплата или переносной дыры, провалившись в которую можно в любой момент оказаться где угодно, хоть в тени в жаркий день, хоть на другом конце земли.

Но сколько ни будет мысль петлять и вилять, стремясь улететь как можно дальше от невыносимого, она всё равно выведет каждого из двоих участников катастрофы к его собственному логическому выводу. Свободный ум Бабура додумается до того, что, отрубив руки строителям и уничтожив возможность создания Красоты, он обрек эту Красоту на умирание, то есть в конечном счете убил Красоту, а тот, кто отдал подобный приказ, разрушающий основы бытия, — просто «сумасшедший говнюк», которого надо убить. Рабский ум Хумаюна будет пытаться восстановить в пошатнувшемся, по его мнению, сознании друга логику взаимосвязи между «хорошо выполненной дерьмовой работой» по приказу (то есть абсолютно, по его мнению, безответственной) и баснословным повышением до высшей иерархии охранников — «стражей Самого в его гареме», а когда поймет, что это бесполезно, прокричит: «Стража! Стража!»
Пьесу эту до сих пор ставили как частную историю про двух конкретных друзей, сильного и слабого, трусливого и отважного: система вторгалась в трепетные человеческие отношения и убивала их. Артур Козин в сговоре с артистами, от которых потребовалась, надо признать, изрядная самоотверженность (предельная и крайне уместная скупость движений — суровое испытание, выдержанное обоими Никитами с честью), вытащил из пьесы совершенно иной, максимально универсальный сюжет.
Его спектакль — про две (и только две) группы людей, на которые неминуемо распадается любое тоталитарное общество в момент катастрофы, и про то, чем обычно эта «поляризация» заканчивается: непременным употреблением верными слугами Самого клейма «предатель» — в конструкции наподобие «предательство, в отличие от крови, смыть невозможно» — и жестоким наказанием «предателя». В данном случае Хумаюн по гнусному приказу отца (извращенная жестокость власть имущих палачей — еще один узнаваемый маркер) отрубает Бабуру руки, в момент казни уговаривая себя и друга, что это — спасение Бабура от смерти.
Финал пьесы на сцене МДТ изменен принципиально. Если в пьесе Бабур в заключительном эпизоде возникает как видение, вызванное муками совести Хумаюна, в конце которого оба героя плачут, а над ними летают райские птицы свободных джунглей, то в спектакле Козина он — реальный и «незваный гость». И его рассказы-вспоминания о джунглях, где друзья-«братья» потерялись в детстве, вызывают в памяти преуспевающего и уже женатого (женитьба — тоже подробность от режиссера) преданного стража императора только одну деталь, о которой он говорит впроброс — а именно что когда-то он вырезал красивых птиц из дерева, но теперь считает это занятие «бесполезной тратой времени» (в пьесе: «Мой отец считает, что это трата времени»).
И хотя исход истории для всякого думающего человека предсказуем, как исход античной трагедии, и адски безнадежен, наблюдение за процессом работы этой кропотливо, умно, остроумно и изящно (как ни парадоксально это прозвучит) воссозданной на сцене социальной модели доставляет огромную радость сомыслия и единомыслия с командой спектакля, что для публики театра Льва Додина — привычный, спасительный и обнадеживающий опыт.
Отдельно замечательна концовка спектакля: никаких поклонов нет, свет в зале зажигается, публика постепенно уходит, а в полутьме сцены так и остается стоять навытяжку верный страж императора Хумаюн, которому, очевидно, не скоро случится услышать команду «Вольно!».
Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.