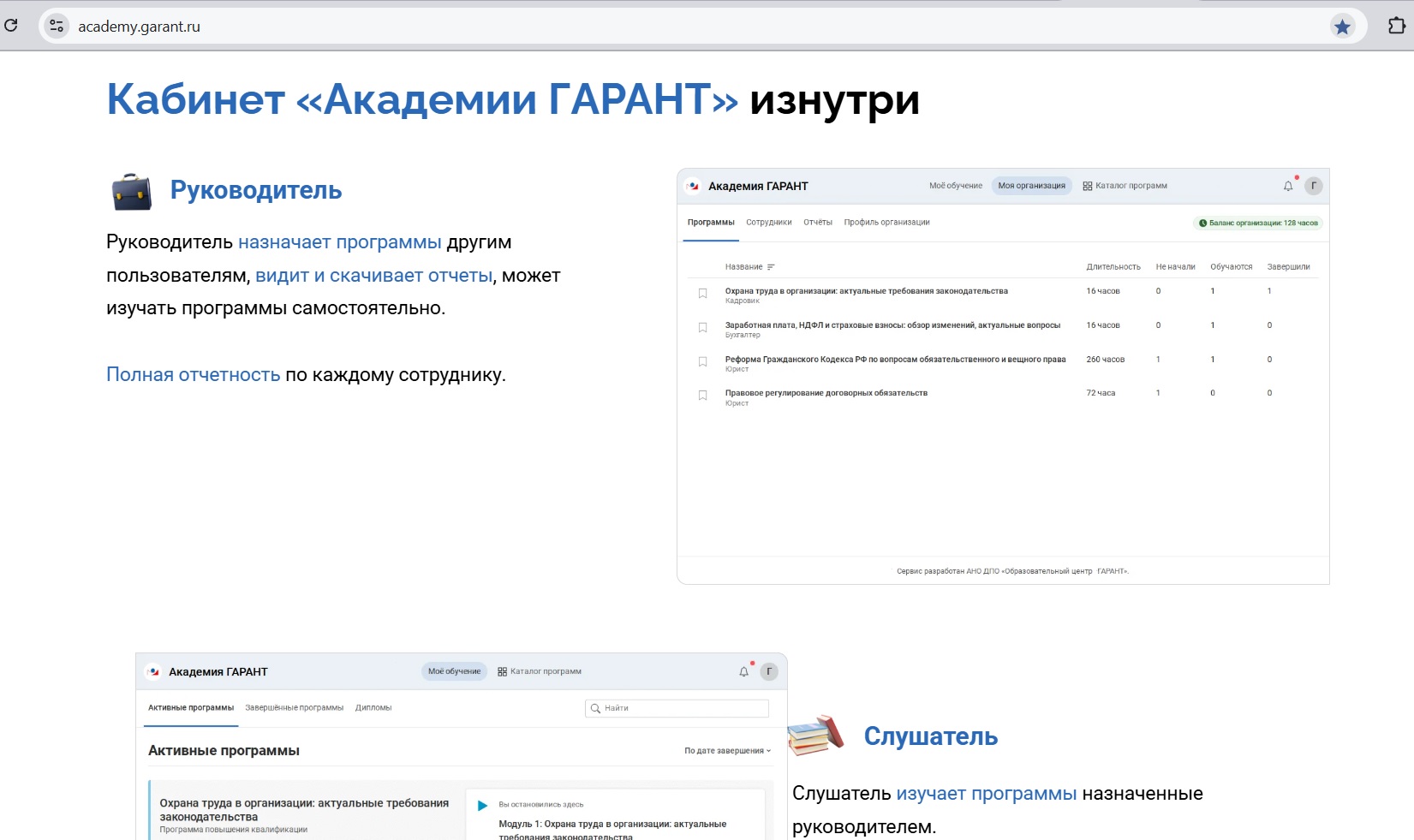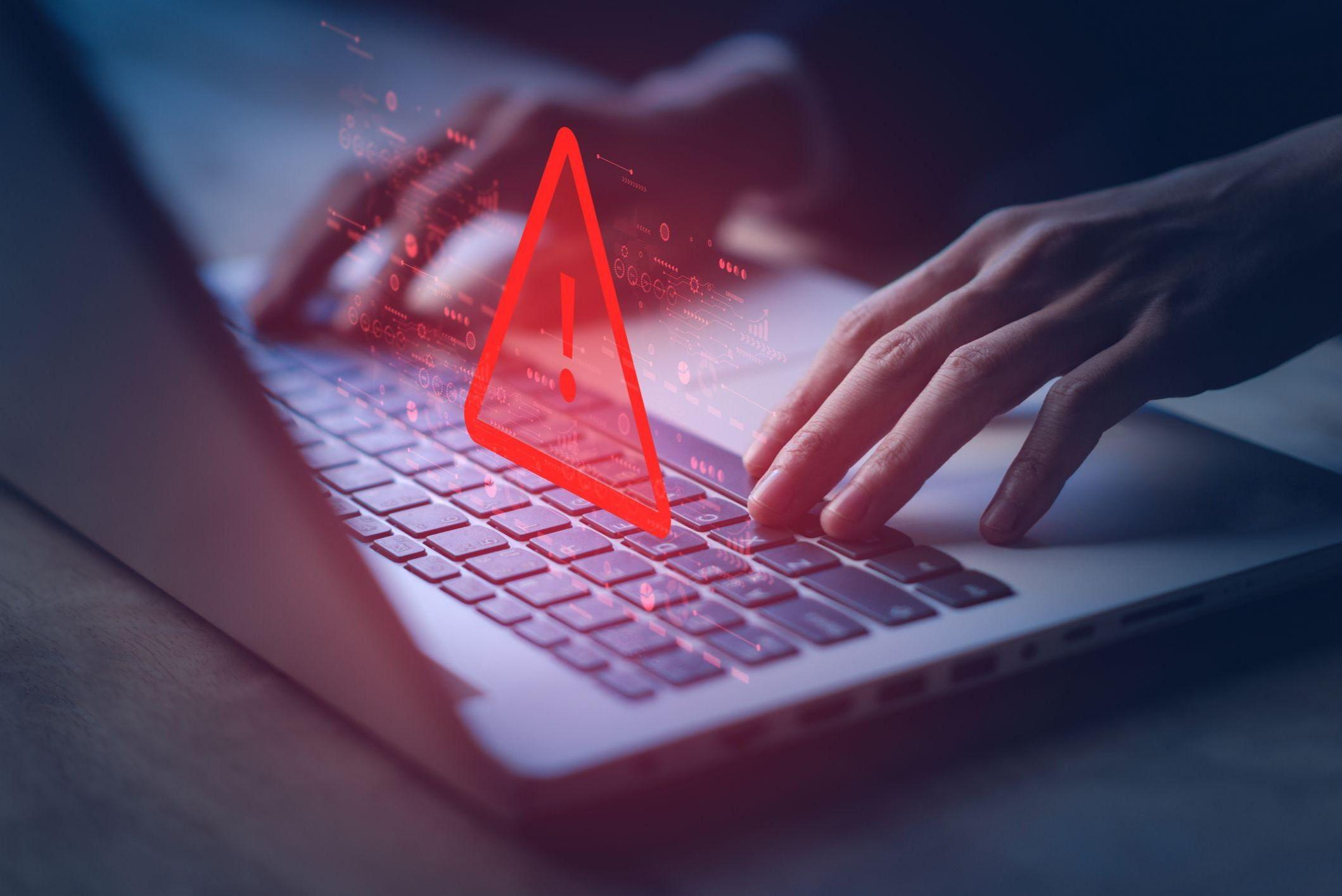На доме Раскольникова в Петербурге установлен горельеф, скульптурная часть которого весьма минималистична: на нем вылеплена фигура согбенного Достоевского на фоне закручивающейся винтовой лестницы. Литературоведы давно подсчитали: слово «лестница» в романе употребляется 85 раз, один только Раскольников поднимается и спускается по ступеням 48 раз, включая сны. Знает ли об этом факте японский художник-постановщик Итару Сугияма, создавший на сцене БДТ горельефоподобную конструкцию?
Практически весь роман умещен в две плоскости: многочисленные железные лестницы, исполосовавшие стену типично петербургского грязного дома, по которым бесконечно поднимаются и спускаются персонажи в строго заданной режиссером партитуре; и, конечно, мост-помост, вынесенный на авансцену.
Впрочем, под мостом тоже есть пространство. Жизни в нем, правда, нет, поэтому принадлежит оно пьяненькому Мармеладову (Рустам Насыров), все время повторяющему про 30 копеек, что украл он у Сони. Есть два исключения: туда, под мост, на твердь сцены уходит убиенная Алена Ивановна (Татьяна Бедова), еще в первом акте. И туда же спускается сам Раскольников (Геннадий Блинов) — уже в финале, видимо, перед рассветом, когда еженощный сон-напоминание-страдание-наказание уже заканчивается.
У каждого здесь есть место и право на движение вверх или вниз — из той же двери, откуда, начиная спектакль, медленно выходит Раскольников, появляются и другие персонажи: Лужин, Катерина Ивановна, — но только сам он обратно уже не поднимется, его жизнь и выборы ведут только вниз. На самом верху заслужил себе площадку взявший на себя чужую вину Миколка, Разумихину тоже находится место повыше. Стабильно на помосте только убийца и блудница. Ниже моста — только если бросаться в Неву/Фонтанку/Екатерининскую канаву, над которой Раскольников покачнется ближе к финалу, но все же нет, не станет, — или падать ниц, что он и делает. Стояние на коленях — как способ не опуститься, но преклониться, признаться, признать.

В коллажной конструкции «снов и страданий Родиона Романовича Раскольникова», выстроенной Мотои Миура, как в любом сне, есть бесконечные ассоциативные связки, которые сшивают разные реальности. Россыпь мелких деталей порождает трудноуловимое ощущение: показалось или, действительно, сценография и расположение героев отсылают к рождественскому вертепу? Только событие центральное другое — не рождение младенца, а (воз)рождение Души. Или вот: горячечность и лихорадка, откуда-то постоянно звучащий смех, которому не сразу находится место в сценической композиции (но позже обязательно найдется, всему неприкаянному в начале обязательно найдется место, эпизод, персонаж — все кусочки пазла режиссер соединит, хоть и не сразу).
Еще эти постоянно повторяющиеся фразы, и главное — герои через одного полусумасшедшие, буйные, идейные, обвиняющие и обвиняемые. В какой-то момент кажется, что вместе со всеми персонажами режиссер отправил нас на бал Воланда, а все эти зацикленные паттерны, жесты и слова, которые снова и снова повторяют герои: «Я видел!», «Я слышал», «Пойдем!» — как Фридин платок для Раскольникова. Чтобы снова и снова вспоминал, перебирал, мучился невозможностью забвения (Мессир — мастер наказания!). Зрителям поначалу непросто, но они погружаются в это пространство на три часа. Проживать это каждую ночь для бессмертной души — можно ли придумать страдание изощреннее?..
Японская театральная традиция здесь отвечает за форму: и текст, и артисты существуют в жестко выстроенной партитуре, актеры в каждой реплике точно знают, какими нотами она должна звучать. Это относится ко всему тексту, но в первую очередь к самому яркому элементу спектакля: бесконечно звучащим на разные лады крикам.

«А! А? А…» — как перекличка в лесу, как звуки из анимэ, как запятые, точки и удар хлыстом; они живут на сцене почти самостоятельно — иногда резонируя с репликами и создавая неожиданный эффект, иногда отзываясь эхом колокольного звона и дверных колокольчиков; они нарушают навсегда оставшийся в Ленинграде ритм метронома; они отсылают к тихому вскрику Лизаветы Ивановны, они, они, они… Они становятся отдельным персонажем, точнее — передаваемой от артиста к артисту эстафетной палочкой, которая преображается в зависимости от того, в чьих руках оказалась. Этот вечный оклик, крик, этот звук формирует структуру спектакля, как формируют структуру музыкального произведения сильная доля, скрипичный или басовый ключ. «А» звучит со сцены как знак из другого языка, нотная грамота, переведенная в звук.
Ритмическая повторяемость, лишь иногда прерываемая музыкой Прокофьева или французской народной песней, создает сначала давящее и назойливое ощущение. Из этого морока хочется вынырнуть — ничего не происходит, только закольцованный рисунок движущихся и выкрикивающих отдельные слова персонажей повторяется снова и снова с незначительными изменениями. И мастерство режиссера проявляется в том, что трудно даже заметить, в какой момент это становится захватывающим, держащим в напряжении и не отпускающим действием, с его специфическим ритмом, который тянет и манит. Возможно, это лучший способ обходиться с романом, содержание которого известно каждому школьнику в этом городе.

Собственно, три часа мы существуем внутри разворачивающегося кошмара в голове убийцы, — трещины на доме переходят в разломы, конструкция распадается, в финале обнажая пустые железные клетки, сокрытые до того стеной дома. И такое же разоблачение совершает и сам Раскольников — единственный раз, в финале, он выходит с обращением к зрителям. В романе это описание последнего сна, сна, рожденного горячкой, бредом переходного периода — бредом накануне возрождения. На петербургской сцене 2023 года текст Достоевского с небольшими изменениями становится диагнозом, точным описанием, обвинением, предъявляемым сегодняшнему, ничуть не изменившемуся миру: «Никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований».
Последняя загадка Мотои Миура — голос, который иногда врывается в сценическое действие. У него нет имени: «Кто я, вы и сами знаете…» У него нет тела — это не голос Блинова, — и нет на сцене никого, кому он принадлежит. Бестелесный, существующий поверх сценического действия, усталый негромкий голос, то задающий вопросы, то комментирующий происходящее невовлеченно.
Кто это? Можно было бы предположить, что это Раскольников спустя годы — дистанция времени, через которую смотрит он на свое прошлое, на свое преступление и наказание.
Но выбор способа его существования позволяет предположить и другую гипотезу: ближе к финалу среди жестов и поз, фиксирующих эпизод, у Раскольникова и Сони все чаще прорывается вполне узнаваемое положение — запрокинутая голова и раскинутые в стороны руки. Словно ближе к финалу фигура Христа, или шире — тема божественного, — прорастает сквозь юродивое, сатанинское, бесовское (палитра актерских работ Геннадия Блинова и Александры Соловьевой невероятно разнообразна, внутри каждого из этих персонажей целая галерея фигур, от издевательских, прорывающихся сквозь маску таящихся внутри бесов, толкающих на преступление, до звучания чистого и невинного, приближенного к святости).

И тогда Голос сверху обретает божественное звучание — того, кто смотрит на нас, — и нет, не борется с дьяволом, но дает нам возможность выбирать и бороться самим. И смотрит он на нас, своих детей, и ищет того, кто найдет в себе силы стать Сыном его — распятым за людей, за право верить в «Не убий», за того, кто когда-нибудь опять сможет родиться.
Юлия Осеева, специально для «Фонтанки.ру»