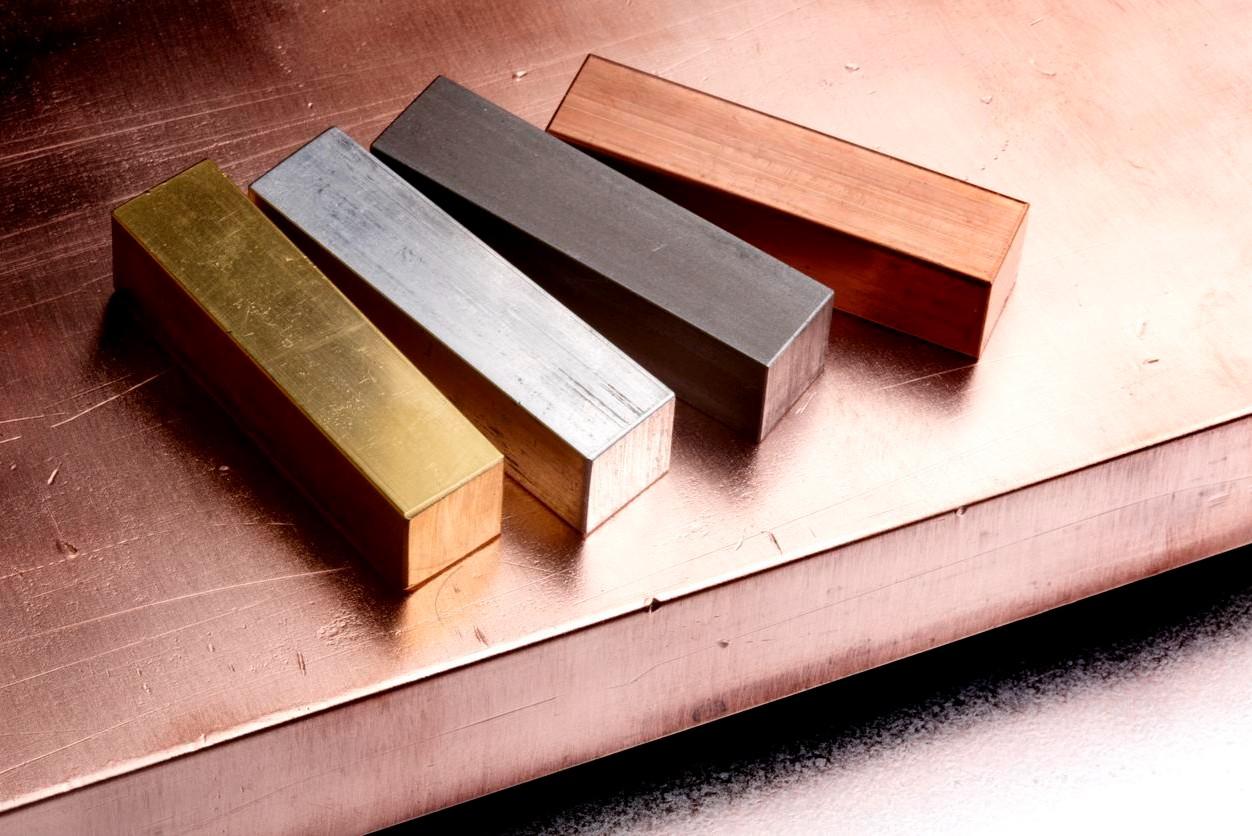Это вторая редакция «Короля Лира» Льва Додина в петербургском Малом драматическом театре, в которой радикально изменился не только актерский состав, но и сюжет, и продолжительность спектакля — последняя сократилась вдвое, с трех часов до полутора. Спустя восемь лет Додин, которому через полгода исполнится 80, поставил «Лира» как итог собственных размышлений о власти и её воздействии на природу человека.

Как может измениться сюжет в пьесе, написанной четыре века назад? Так же, как и любой другой. Всё зависит от акцентов, от тех событий, которые режиссер назначит главными. Спектакль 2005 года случился после возвращения ученика Додина Петра Семака из МХТ, куда он было уехал навсегда, но, не отработав и сезона, вернулся. Мастер блудного сына простил, но поставил «Лира» о предательстве близких людей.
В новом «Лире» предательство старших дочерей, между которыми старый король поделил королевство, — дело десятое. Сцена с дочерями важна лишь как знакомство с новым Лиром (Сергеем Курышевым) и оставляет герою мало шансов завоевать симпатии. Это сухопарый старик высоченного роста в длинной белой рубахе и с ухмылкой на самодовольном лице, которая немедленно сменяется яростной гримасой, стоит только одной из дочерей (Корделии Анны Завтур) произнести слово «ничего» вместо того, чтобы медоточить лестью. Лир при этом сидит на раскладном парусиновом стуле — и его длинные подагрические пальцы, впивающиеся в ручки, становятся предвестниками отборной брани.
С другой стороны, много ли мы знаем монархов, отличающихся сдержанным, спокойным нравом? И почему бы не ублажить отца славословиями, тем более что, судя по театральной мизансцене (дочки сидят в ряд у дальней стены, а отец внимает им на авансцене) и по тому, что Гонерилья (Марина Гончарова) и Регана (Дарья Ленда) чеканят свои любовные признания так, словно отвечают давно выученный урок, этот спектакль — давно освоенный ритуал.
У прежней Корделии — Дарьи Румянцевой характер был явно отцовский, она сознательно играла с огнем, произнося свое «ничего» с дерзким вызовом. У Корделии новой причина иная: судя по тому, как она спустя несколько минут будет смотреть на одного из своих женихов, герцога Бургундского (Евгения Шолкова), именно из-за него она не хотела участвовать в дурацкой комедии и кривляться, подобно сестрам, которые и не поглядят на своих будущих мужей. Корделия явно влюблена, и оттого ей хочется быть лучше, но любовь — это и беззащитность, так что поток обрушившихся на нее словесных проявлений отца, который еще и усадил младшую дочь на свой стул и нависает над ней, как коршун, вызывает шок и слезы в распахнутых от ужаса глазах. Но смотрят эти глаза на вошедшего герцога, а он запросто отказывается от нее-бесприданницы, так что поздравлять юную бунтарку с браком с благородным французским королем (Артуром Козиным) в данном случае — всё равно что поздравлять со столичным замужеством Татьяну Ларину.

Пожалуй, это самая сентиментальная сцена в спектакле. Все остальные человечные проявления героев Додин сократил до предела. А история Корделии на этом и вовсе заканчивается. В последней части спектакля она появится именно как дух, видение сошедшего с ума Лира, хотя слезы её и будут по-настоящему мокрыми. Пылкий диалог Корделии с прозревшим, обессилевшим отцом будет безжалостно сокращен, как и страсти её сестер в борьбе за бастарда Эдмунда, закончившейся смертями обеих, как и роль мужа Гонерильи, вставшего на сторону короля, как и воображаемый прыжок в бездну ослепленного Глостера и сцена обретения им родного сына, от которой обычно заливаются слезами самые циничные представители публики.
Всё это Додину нынче неважно, и он действует подобно великому скульптору Микеланджело, отсекая от глыбы шекспировского «мрамора» то, что для его сегодняшнего сюжета лишнее. А сюжет — это режиссерское исследование единственной темы, которой Мастер прицельно занят как минимум с 2016 года, когда вышел его знаменитый «Гамлет»: темы власти, её влияния на человеческий мозг и всё внутреннее устройство.
Поэтому отчетливый крупный план здесь есть только у одного артиста — исполнителя роли Лира Сергея Курышева, актера-соавтора и партнера, переигравшего в спектаклях Додина множество ключевых ролей. Но этот план — прежде всего режиссерский микроскоп, помогающий проявить детали. Новый, в значительной степени прозаический перевод Дины Додиной — почти подстрочник, в котором сохранена вся физиология, табуированная в советские времена, когда сделано большинство переводов английского барда, — Курышев осваивает со свойственной дотошностью и самоотверженностью. Изгнав Корделию и раздав свои владения, Лир, что называется, «слетает с катушек»: затыкает Глостера (Сергей Власов), посылает в ж… (вот прямо это слово и произносит) преданного Кента (Игорь Иванов), чей здравый смысл и честь верного слуги короля не позволяют бездействовать, когда «власть пожирает саму себя».
Кент уходит, чтобы тут же вернуться, надвинув на глаза капюшон и, сказавшись Каем, пожелавшим служить королю (роль Иванова оказывается тут второй по важности после Лира, но о ней позже). А Лир, добровольно отдавший земли, продолжает вести себя на них как полноправный правитель. Оттого что тряпичный «трон» переехал с авансцены в центр, Лир-Курышев своего поведения не изменил. И дело не в количестве прислуги — её в спектакле Додина у короля нет вовсе, поэтому, говоря о «людях короля», и Гонерилья с Реганой, и сам Лир указывают на шута и только. Дело в другом: от новой и законной правительницы Гонерильи король требует полного подчинения, вплоть до требования не хмуриться, а улыбаться при его появлении.
Тут важно подчеркнуть, что Курышев в этой сцене не играет безумие, проявления его героя — нечто гораздо более опасное для окружающих и для страны: это беспредельная распущенность, которую никому не под силу остановить, потому что ощущение неограниченности своего всевластия вопреки любой логике — то, что намертво вживается в человека, долгие годы безраздельно сидящего на троне. При этом Додин работает в прежних декорациях Давида Боровского (выпускающий художник Александр Боровский), где доски, скрещенные в форме буква Х у каждой из трех стен, создают ощущение наглухо заколоченного, изолированного от мира пространства, внутри которого разнузданная воля единственного человека разрушает всё живое.

В спектакле есть два ключевых слова, превращенных в лейтмотивы: «ничего» и «отец». «Ничего — это ничего», — произносит Лир в начале и, перекрывая для самого себя всякую возможность почувствовать невыразимое в слове, подлинную любовь дочери, спешит обнародовать правило взаимодействия с ним любого человека: угождать. Корделия расплачивается за то, что не смогла угодить. И не менее жестоко расплачивается Гонерилья за то, что угождать перестала. Желая дочери, чтобы природа «выскоблила её утробу, высушила все её органы размножения, а если у неё родится ребенок — чтобы он был из селезенки», — Лир — Курышев с высоты своего исполинского роста словно выплёвывает из себя всё человеческое, превращая свой дикий, варварский монолог в пособие по саморазрушению. И это не неистовство, не аффект, не самозабвение, а хладнокровное желание всяческого зла собственному ребенку, который еще только попробовал заявить о своих правах на власть, формально ей уже отданных.
После ухода Лира героиня Марины Гончаровой сгибается и падает на колени так резко, как марионетка, у которой отрезали нити, и выдавливает из себя, точно заклинание: «Отец! Отец!», точно пытаясь возродить в себе дочерние, человеческие чувства. Но — и это для Додина важный, хотя и мучительный, выстраданный вывод: как только в наше нутро проникает червь властолюбия, варвар начинает съедать человека.
В зеркальной сцене с отцом Регана — Дарья Ленда — гораздо менее чувствительна, хотя ритуальное «отец» из её уст всё равно вырывается. Но когда обе сестры объединяются в борьбе за власть, с определением Лира «две ведьмы» уже вполне можно согласиться. Между тем слово «отец» (но уже с прощальной интонацией) вырвется из уст обеих молодых женщин еще раз: после опять же зеркальных постельных сцен с Эдмундом — условно-постельных, потому что никаких постелей тут нет, а есть кабинки на колесиках, с тремя отсеками в каждой, напоминающие конюшни. Секс здесь тоже — не пространство чувств, а территория преступного сговора против родителя, потому что власть всегда имеет тенденцию стать безраздельной.
Отношения между членами главной семьи в государстве подданными немедленно и бессознательно считываются как тренд. Мы не успеваем оглянуться, а роковое «ничего» пробирается в семью Глостера, которого играет еще один корифей здешней труппы, Сергей Власов. Усевшись ровно в ту же позу, что и король в сцене с дочерями — на стул перед залом, он продолжает «копировать» модель поведения монарха.

«Если там действительно «ничего», то мне и очки не понадобятся», — говорит он, буквально вырывая из рук внебрачного сына —красавчика Эдмунда (Евгений Зайфрид) клеветническое письмо на брата, законного сына Эдгара (Михаил Титоренко). И очки этот Глостер в самом деле не надевает, но не потому, что заранее не собирается верить в то, что сын готов его убить, а наоборот, потому, что поверил, не читая письма, — тем более что «расположение светил» указывает на то, что семейные распри неизбежны. Отсутствие сомнений в предательстве ближних, даже если этот ближний твоя кровь, — еще одна узнаваемая примета времени. Под благородной внешностью Глостера — Власова скрывается бесчувственный чурбан, который вскоре (в спектакле Додина всё случается очень быстро) расплатится за свое внутреннее «ничто».
Удивительным образом упругость в спектакле от начала и до конца сохраняют только два героя: шут и Кент. Играющему шута Никите Каратаеву не позавидуешь, ибо соревноваться ему приходится с образом, созданным в своё время Алексеем Девотченко. В первой версии, где торжествовали принципы балагана, площадного народного театра, Девотченко был незаменим. В версии новой, где балаган заменен на политический театр, шут — это всего лишь критическое мышление монарха, насколько оно вообще возможно. Девотченко играл существо, максимально близкое к шекспировской стихии: это была лихая и отчаянная неуправляемая смеховая природа, накрепко связанная с исконной человеческой свободой. Шут — Никита Каратаев «мудаком» короля не назовет, ну максимум — «дураком». Его роль — остаточная совесть и здравомыслие короля, которые так или иначе всё равно у него на службе. Он славный малый, но тягаться с королем ему не по силам. И он исчезнет, как только король сойдет с ума.

А вот Кент Игоря Иванова выполняет задачу гораздо более сложную, отвечая на вопрос, что может делать истинно достойный человек рядом с королем, превратившимся в пустую оболочку себя самого — не в смысле утраты власти, а в смысле утраты всякого достоинства? Не знаю, есть ли где-то еще артист, который мог бы меня убедить, что истинное служение — это служение в том числе и вот такому королю. Но Иванов — смог. Фактически его Кент — единственный персонаж, который от начала и до конца истории, несмотря на то, что мир вокруг превращается в тотальный Бедлам, остается критерием нормы, что само по себе оборачивается геройством. Это единственный человек, который не угождает, а искренне любит своего короля, который каждым из своих жестких и точных движений и слов обеспечивает его покой и безопасность.
Пожалуй, именно существование между шутом и Кентом обеспечивает королю Лиру Сергея Курышева лучший из возможных для короля в его положении финал: светлое безумие. Он вдруг как будто сам становится шутом — и с такой нежностью произносит «мальчик мой», глядя на само по себе играющее знакомые мелодии пианино, точно шут был его незаконнорожденным сыном. «Он совсем сошел с ума», — констатирует Кент — Иванов, и отныне превращается в исключительно внимательного и заботливого доктора. Всё второе действие, длящееся чуть больше получаса, — это фактически полностью предсмертный монолог блаженного Лира, который из уст большого артиста Курышева звучит как пророческие стихи.
Знаменитая сцена бури, в которой в первой версии король — Петр Семак сбрасывал с себя и с окружающих все до единой «взятые в наём одежды», теперь более целомудренна. В новой концепции физиологична как раз власть. А «голый человек на голой земле» — поэтическая метафора, и тел, обнаженных по пояс, Додину вполне достаточно.
Слова блаженного Лира попадают в нерв все до единого. «Ты такой же, как я, — говорит он ослепленному Глостеру. — Надень свои очки, и, как презренный политик, делай вид, что видишь то, чего нет».
Встреча с Корделией, которая расскажет Лиру, что ведет французские войска на Англию, защищая его интересы, тоже произойдет в его воображении. А танец с тремя грациями в белых платьях, сшитых по фасону эпохи Возрождения, будет и вовсе восприниматься как предсмертное видение монарха. Правда, перед самым уходом ему всё же придется увидеть три бездыханных тела в белом и пробормотать чуть слышно: «Дурочку мою убили».

При этом второе действие идет словно в двух временных планах. Время для Лира практически останавливается, а война, непрерывные убийства никуда не исчезают, наоборот, ускоряются по закону геометрической прогрессии, хотя Додин и уводит их на второй план. Там, вдали, у задника со скрещенными досками деятельный, циничный муж Реганы герцог Корнуэлл (Никита Сухарев) ослепляет Глостера и сам оказывается убит Освальдом (Никита Сидоров). Там честный Том (переодетый в одежды нищего оклеветанный Эдгар, боящийся расправы отца) убьет «ублюдка» (в шекспировском лексиконе это не ругательство, а констатация факта рождения вне брака) и предателя Эдмунда и объявит отцу, что он на самом деле — его любящий сын. Но частные жизни на фоне исторической катастрофы, которую анализирует Додин, — ничтожна малая величина.
Финальная сцена спектакля — Лир, стоящий у задника по центру, — означает конец страданий только для короля, постигшего настоящее «ничто». И если у Шекспира есть кому подхватить власть, то в спектакле муж Гонерильи герцог Олбани возникает только в прологе. А значит, война за власть со смертью короля возобновится с новой силой.
И если бы «Гамлет» Додина оставался в репертуаре, а не был временно отменен в связи с вынужденным отпуском Данилы Козловского, он и новый «Лир» могли бы играться как шекспировская дилогия о власти. Круг философских размышлений Льва Додина, обозначенный некогда в программке «Гамлета», для сегодняшнего «Лира» звучит еще актуальнее: «Может быть, великое Возрождение есть в том числе и одна из высот интеллектуального и духовного обогащения древних варварских принципов мести, ненависти, убийства, уничтожения. Может быть, и всё развитие человечества, которым мы все так гордимся, — это еще и варварство; непрерывно интеллектуально обогащаемое, интеллектуально и духовно оправдываемое варварство. И может быть, весь прогресс, которым мы так восхищаемся, — это интеллектуализация низших человеческих инстинктов, которая и привела нас туда, где все мы, Человечество, находимся».
Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»