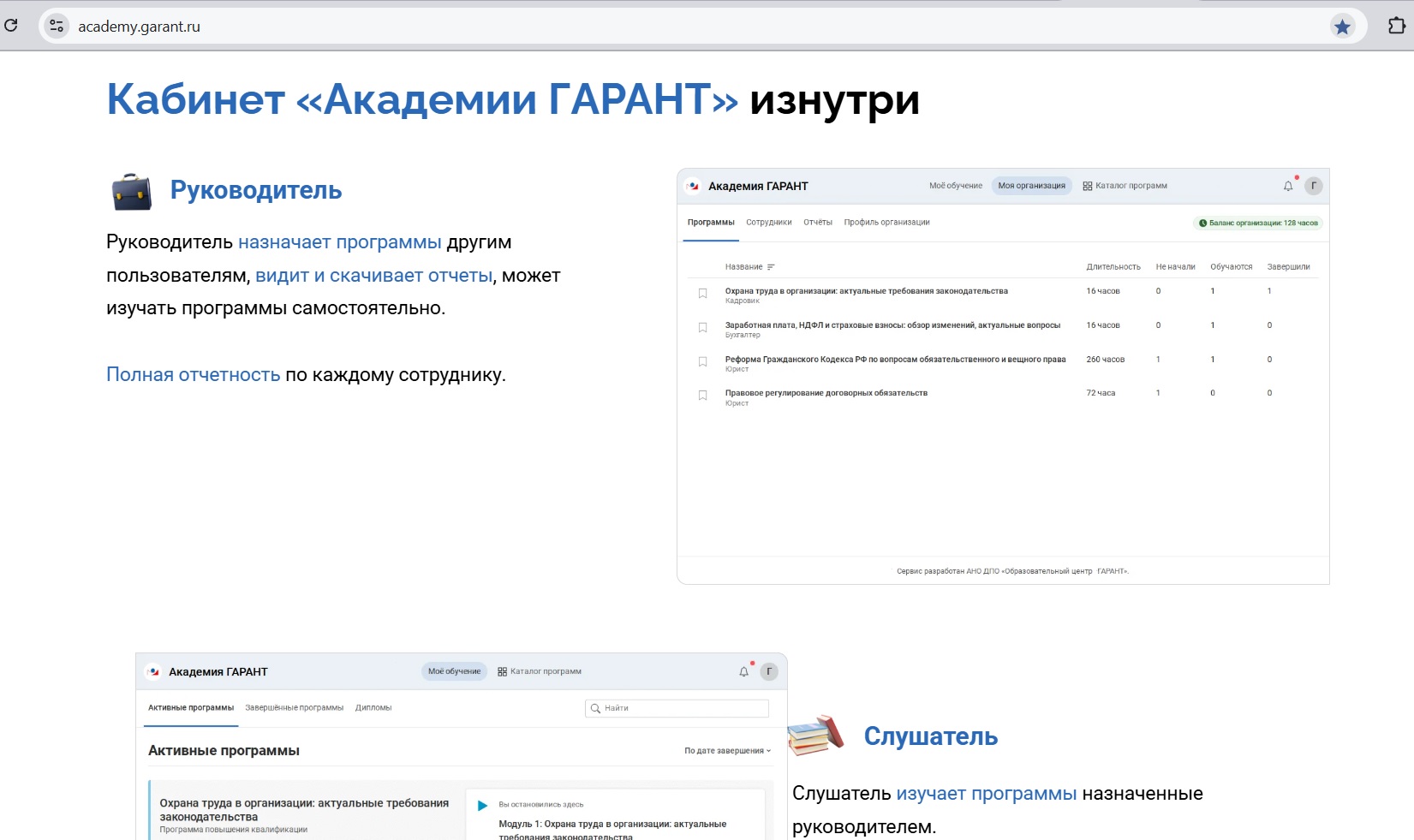Консервативный «поход» против «гендерной идеологии» набирает силу не только в российском обществе, а имеет международный характер, отмечает профессор факультета социологии и философии Европейского университета в Санкт—Петербурге и сокоординатор программы «Гендерные исследования» Елена Здравомыслова.
В интервью «Фонтанке» исследователь рассказала, что замечает «агрессивное наступление антифеминистского консервативного дискурса, который использует приемы идеологического шельмования, политического преследования и криминализации». Но радикализация консервативного дискурса может спровоцировать неожиданный (на самом деле нет) эффект, когда консерваторы станут объектом «игнорирования, высмеивания, гнева, ненависти и недоверия к нему», что будет играть на руку как раз демократизации общества.
— Елена Андреевна, как исследователь, видите ли вы, что общество развернулось обратно в сторону патриархата, услышав транслируемую теорию духовных скреп? Стало ли оно жестче реагировать на феминисток?
— Общество всегда относилось к феминисткам как к чему-то странному и чуждому: феминистки всегда были «другими» носителями нетрадиционной повестки, которая не поддерживается большинством, начиная от суфражизма и кончая политическим движением за то, чтобы женщина была президентом. Феминисты в массовом сознании — всегда странные, возмутители спокойствия, обычный неполитизированный человек, встретив их, скажет: «Это не мое!»
При этом общество приходит к осознанию того, что феминистки поднимают важные вопросы, решение которых поможет улучшить качество жизни и мужчин, и женщин в этой стране. Но «мы не будем в этом участвовать!» — говорит большинство, это такой комплекс фрирайдера, безбилетного пассажира. Сам я бороться не буду — это опасно, да и я, как мне говорят, хорошо живу. Но неплохо, что феминистки продвинули этот вопрос, и мы можем признаться, что, да, в своей жизни мы сталкивались с насилием и домогательствами (а раньше у нас не было этого языка!). Домашнее насилие тоже начинает признаваться — делаются медленные шаги по построению инфраструктуры: есть возможность обратиться в суд, существуют шелтеры и кризисные центры.
— Как выглядело феминистское движение в новой России после распада Советского Союза, где Коллонтай говорила, что феминизм — это когда женщины—буржуазки требуют привилегий для себя?
— Надо сказать что феминистское движение в целом, как и феминистская политика, переживало ту же динамику, что и многие другие движения за права, за гражданские свободы. Поэтому мы можем говорить, что у нас был период общего демократического транзита, когда гражданское общество заявило о себе в разных формах прямой и формальной демократии. Тогда феминистские инициативы были не очень популярными, но всё-таки находили свои пики: существовали различные НПО и низовые инициативы, которые нигде не регистрировались — это были проекты совместных действий в сфере культуры и всяческих других символических формах, а также инициативы, ориентированные на повестку гендерного равенства, равенства возможностей мужчин и женщин; время от времени мобилизовывалась антисексистская повестка.
— На что тогда была направлена работа феминистских организаций?
— В общем движение довольно искренне реагировало на всю повестку. Можно выделить два основных вектора реагирования: конечно, внутренняя повестка, но и международная повестка феминистского движения тоже — на эти проблемы настраивались феминистские инициативы в своей работе.
Политика феминизма часто фигурирует в России под другими названиями: она существовала и на институциональном формальном уровне, когда российские власти брали на себя ответственность за развитие национальной стратегии гендерного равенства. Это вполне официальная «старинная» повестка, к которой подключались разные политические деятели. Валентина Ивановна Матвиенко в этом смысле довольно выраженная фигура.
Так вот, главных проблем, с которыми боролись отечественные феминистки, было две: обеспечивать условия для баланса занятости женщин и домашне-семейных ролей; чтобы женщины в России так сильно статистически не отставали от мужчин по показателям участия в публичной сфере — например, в оплате труда, уровне квалификации, политическом участии; чтобы менее вопиющими были такие феномены гендерного различия и дискриминации, как «стеклянный потолок» и «стеклянные стены».
А вторая повестка, которая сильно связана с международным феминистским движением, естественно, не столь институционализирована, она подхватывается гражданским обществом и инициативами. Она формируется снизу и реагирует на недовольство женщин, иногда её удается частично формализовывать. Основной содержательный момент в этой низовой проблематике — это борьба с домашним и сексуальным насилием, потому что это зонтичная повестка, которая сохраняется во всех обществах — переживших и переживающих патриархат в разных его ипостасях. Данная проблематика в центре внимания женского движения во всех странах — эта повестка универсальная, и в России она находит отклик — мы это знаем.
— Есть ли какая—то формализованная скоординированность действий мирового сообщества и России в работе с гендерной и феминистской повесткой?
— Россия участвует в институциональных рейтингах-соревнованиях по этим вопросам. В России собиралась, да и собирается до сих пор, информация для построения индекса гендерного разрыва, или индекса гендерного равенства, — это международная методика, адаптированная к региональным особенностям, которая позволяет сравнивать показатели гендерных различий между разными странами и регионами. Эти данные, собираемые регулярно, находящиеся в открытом доступе, показывают, что самым слабым аспектом в России является политическое представительство женщин, а многие другие параметры совсем неплохие и даже устойчивые. Гендерная официальная повестка до сих пор ориентирована на работу с этими показателями.
— Когда поутих феминистский бум?
— Если 1990-е годы называются некоторыми исследователями «гендерными» девяностыми (это годы, когда появляются самые разнообразные проекты и инициативы), то с приходом 2000-х стал наблюдаться авторитарный поворот в политике — и гражданские инициативы начали переживать период упадка и контроля, они столкнулись с репрессивными мерами избирательного характера. Возникает консервативный поворот в гендерной политике и идеологии, когда регуляторы (официальные власти) начинают использовать гендер для укрепления легитимизации своей власти. Главный лидер продвигает «правильную маскулинность» и явно гендерно маркированную концепцию традиционных ценностей, где точно прописаны ролевые предписания по признаку пола, которые могут оцениваться как сексистские. Консерваторы не только институализированы, но у них есть и инициативное неформальное крыло, которое даже более радикальное, чем официальный дискурс. Они ведут наступательные стратегии на феминистские инициативы, феминистскую и гендерную идеологию, опираясь в этом на идеологию РПЦ: даже не сама православная церковь, а ее номенклатура — Патриарх Кирилл — прямо объявляет феминизм недружественным, а гендерную идеологию — морально деградационной.
Этот консервативный «поход» тоже не ограничен российской сценой, а имеет международный характер, потому что движение против того, что консерваторы называют «гендерной идеологией», набирает силу не только в российском обществе. Сейчас мы наблюдаем агрессивное наступление антифеминистского консервативного дискурса, который использует приемы идеологического шельмования, политического преследования и криминализации; в результате гражданские инициативы, в том числе и феминистские, из публичной сферы уходят.
Мы не можем говорить о существовании феминистского движения в формах, привычных для демократического общества. В виде прямых действий коллективного характера — митингов, в виде повестки парламентских политических партий, в виде институализации развития неправительственных организаций, которые находятся под угрозой репрессивных законов. Человеческое самосохранение требует выхода из публичности. Поэтому можно сказать, что низовая феминистская политика существует, но в формах, характерных для авторитарных режимов, и находится в поиске новых форм, где важную роль играет цифровизация. Цифровизация феминистской повестки и различных форм гражданского активизма — тоже мировой тренд, характерный для всех обществ, особенно тех, где нет других каналов свободного волеизъявления граждан.
С авторитарным поворотом со сцены ушли многие инициативы — риски что-то организовать и за что-то выступить становятся очень большими, поэтому весь феминистский активизм ушел в сферу третьего места: вроде есть, а вроде нет, — и в поиски ниш безопасности, когда лучше не светиться — как бы за это не поплатиться.
— Чьи голоса сегодня можно выделить в работе отечественного фемдвижения?
— Я даже не буду об этом рассказывать, потому что в целом вся феминистская повестка уходит из публичной сферы в цифровую публичность. Мы видим движение, которое сами участники могут не называть феминистским, но по своей повестке оно является феминистским: они говорят о репродуктивных правах, выступают против домашнего насилия. И сейчас, на мой взгляд, можно явственно услышать голоса матерей военнослужащих. Хочу подчеркнуть, что в нашем обществе до сих пор существует зазор между тем, что, скажем, следователь назвал бы феминистским, и тем, что под этим подразумевают сами участники движения. Потому что само признание, идентификация себя с феминизмом требует некоторых усилий роста сознания и преодоления некоторых рисков, настолько уже этот термин стал непривлекательным. Да и всегда за ним была негативная коннотация, а теперь еще и возникают дополнительные отсылки к так называемой «деструктивной идеологии». Так зачем же себя идентифицировать с феминизмом, если это может навлечь на тебя, мягко скажем, неприятности? Можно выходить с повесткой, требовать чего-то — совершенно необязательно записываться при этом в какую-то идеологию. И это тоже тенденция современного времени: не стоит пользоваться теми (старыми) словами, за которыми тянется шлейф общественного осуждения и политической кары — это сохраняет хотя бы видимую безопасность.
— О каких ярких петербургских акциях по типу митинга у Мариинского дворца, куда пришли женщины с детьми дошкольного возраста, которым не выплатили материнский капитал, можно вспомнить, говоря о расцвете феминизма в нашем городе?
— Да не было у нас никакого расцвета феминизма, были лишь конкретные акции по поводу конкретных угроз, есть люди, которые не приемлют дискриминацию по признаку пола и сексизм и стараются, чтобы всех этих «мерзостей жизни» становилось меньше. Реактивный характер феминистских инициатив также является особенностью современного женского движения. Люди реагируют: есть угроза, что декретные будут отнимать или ограничивать вас в правах, — пора выступить; есть оскорбление — надо противостоять ему. Желательно вместе с единомышленниками, если это возможно. Этого требует чувство собственного достоинства, которое все же развивается у наших граждан и в формировании которого феминистские идеи играют большое значение.
В нашем городе было много художественных выставок, перформансов, которые я причисляю к феминистским: противодействие сексизму и насилию может осуществляться с помощью политики визуализации — и эти формы получают распространение в условиях ограничения политических возможностей протеста. То есть на самом деле движение это очень во многом захватывало часть современной художественной элиты — и там поднимались и поднимаются темы сопротивления дискриминации и насилию по признаку пола. То есть нет акций, традиционных для демократии, но идет процесс постепенного формирования безопасной ниши в современном российском обществе (в медийном пространстве), где возможно озвучить недовольство или выступить с инициативой.
При этом у нас достаточно деятелей культуры, которые рассказывают, что в опыте каждой женщины есть сексуальное насилие, принудительный секс, что домашнее насилие — не выдумка людей, которые идут на поводу у западного феминизма, что приписывание женщинам вины за сексуальное насилие, совершенное в их отношении, — наша национальная игра, в которой участвуют и правовые органы. Вся эта тематика продвигается немитинговыми средствами, для нее уместны другие средства, ведь речь идет об изменении культуры в рамках долгосрочной перспективы. Важно изменять способ говорения об отношениях, дискриминации и насилии. Я считаю, что колоссальную роль во всем этом до сих пор играют журналисты: они продвигают в публичном дискурсе темы, которые ранее замалчивались. Но для этого нужна храбрость.
— У меня есть ощущение, что когда—то громким голосом, борющимся в парламенте за права женщин, стала Ирина Хакамада. В сегодняшнем истеблишменте можно выделить тех, кто пытается идти против тренда, хоть немножко продвигая женскую повестку?
— Есть представители истеблишмента, которые продвигают политику гендерного равенства в сферах занятости и публичного представительства. Время от времени такие люди, как Татьяна Голикова, выступают с проблематикой, связанной с балансом занятости, отмечая, например, что существуют определенные препятствия институционального характера для того, чтобы женщины могли совмещать карьеру с материнством, что есть нехватка поддержки родительства.
Стоит помнить, что в России с определенной регулярностью уже проходит Евразийский женский форум — там слово «феминизм» не употребляется, но в официальных речах на английском языке и в последующем переводе на русский не отказываются от термина «гендер». И в таких местах фигурируют номенклатурные женщины. Среди них можно назвать Валентину Матвиенко — она развивает этот дискурс, сохраняя преемственность с советским дискурсом гендерного равенства.
Также существует гендерная фракция партии «Яблоко» — у них действительно ярко звучит гендерная повестка. Но это не парламентская партия, она ведет клубную инициативную жизнь. Правда, на региональном уровне представители этой партии становятся депутатами городской думы, и тогда повестка борьбы с дискриминацией становится более значимой.
— Когда во внутренней политике появился разговор о духовных скрепах, феминистское сообщество как—то на это отреагировало?
— Мы уже выяснили, что пространство борьбы очень ограничено, поэтому прямого столкновения феминисток и власти не случилось, как и прямого протеста — просто нет возможности. Очень многие, не феминистки, а просто люди, не определяющие свои позиции в конвенциональных идеологических терминах, — борются с нынешней официальной повесткой своеобразным, очень знакомым для советской культуры, образом: они игнорируют официальную риторику моральных скреп: «То они говорили об интернациональном долге, то о том, что мы построим коммунизм за 20 лет, то, что у нас уже все достигнуто в вопросах гендерного равенства... Так пускай говорят, а мы будем жить своей жизнью».
Таким образом, происходит отчуждение от официального дискурса, деполитизация и дистанцирование от «идеологии скреп». На мой взгляд, который разделяют и другие исследователей российских гендерных отношений, эта идеология слишком далека от повседневности современных поколений. Тебе объясняют, что нужно воздержание, а у тебя добрачная сексуальная жизнь. Тебе говорят о крепкой семье из трех поколений, а ты в одиночку воспитываешь ребенка. И так далее. Наблюдается разрыв официальной риторики и реальности: а раз это разрыв, то в общем эту риторику можно рассматривать как лицемерную и далёкую, относиться к ней как к некоторому пустому ритуалу, который тебя лично не касается, и стараться увильнуть от угроз и прямого попадания. В таких условиях граждане выстраивают собственные ниши безопасности, где они могут реализовать свой жизненный проект, который обязательно имеет гендерную составляющую.
— Давайте обсудим несколько событий, лежащих в плоскости фемповестки, которые, произойдя поочередно, сложились в стройную спродюсированную историю: сначала челябинский сенатор заявила, что хватит женщинам получать высшее образование, пора рожать; примерно тогда же появилось предложение запретить аборты в частных клиниках, после вспомнили, что можно ввести налог на бездетность, а дальше Матвиенко заявила, что все—таки аборты никто не запретит делать. К чему все идет?
— Консерваторы идут вперед, наступая на всех фронтах. Конечно, я, как человек академический, смею надеяться, что могу не только возмущаться, что наступать на уже завоеванные и, казалось бы, непоколебимые права человека — это безобразие, но и держать научную дистанцию. Мне ужасно интересно то, что происходит, и то, как будут разворачиваться события, как далеко может продвинуться мракобесие в консервативном дискурсе о гендере и какова будет реакция.
Что можно сказать с этого академического расстояния? В консервативном дискурсе есть очень привлекательные черты для многих людей — им симпатична понятность, то есть традиционность, стабильность, социальные гарантии. Но когда консерваторы доводят свою повестку до абсурда, предлагая исключительно запреты, вводя меры, связанные с гонениями на инакомыслие, и ограничивают право женщин распоряжаться своей жизнью, то тогда ты как исследователь начинаешь ожидать, что дракон полностью проявит свое дегуманизирующее нутро, и тогда огромное количество людей увидит, что гендерный консервативный поворот в политике не гарантирует наступление стабильности, благополучия и «нормальной» жизни; что консервативные силы готовы только к репрессиям, унижениям; что они делают нашу жизнь не лучше, а гораздо хуже и опаснее.
Потому что обвинить в ЛГБТ*-активизме можно сейчас любого человека, независимо от его ориентации, обвинить в склонении к абортам также можно любого человека, который ставит под вопрос однозначные репродуктивные решения в пользу деторождения. Когда консервативный дискурс радикализируется, становится фундаменталистским и доходит до абсурда, я вижу, что он может вызвать протест, сильное оппонирование, совершенно не обязательно в виде солидарных публичных действий — это опасно, но в виде игнорирования, высмеивания, гнева, ненависти и недоверия к нему, что играет на руку демократизации.
В самом начале 2000-х в медийном пространстве также звучали голоса консервативных гендерных фундаменталистов. Так, например, бизнесмен Стерлигов делился с ТВ-аудиторией своими убеждениями о том, что женщинам не нужно получать высшее образование, потому что вузы — это рассадники разврата. Но таких голосов были единицы, они звучали как одиозные, а теперь мы слышим такое с депутатских трибун, даже от женщины с высшим образованием, занимающей политическую позицию. Мое оппонирующее академическое «Я» говорит: «Чем абсурднее сообщение официального дискурса, тем лучше» — он обнаруживает свои клыки и копытца, его лицемерие, жестокость и неуместность увидят те, кто до этого закрывал глаза и думал, что раз на них прямо не влияет эта риторика, то «пусть говорят».
Хочется подытожить, сказав, что феминизм — вещь демократическая, и она противоречива и очень сложна, как и все демократическое. Там, где нет демократии, феминистские идеи и инициативы существуют, но они избегают прямых политических форм и идеологических идентификаций, стараясь не попасть под прицел репрессивного консервативного дискурса.
Беседовала Анастасия Медвецкая, специально для «Фонтанки.ру»
*Верховный суд признал международное движение ЛГБТ экстремистским, деятельность запрещена на территории РФ.
Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.