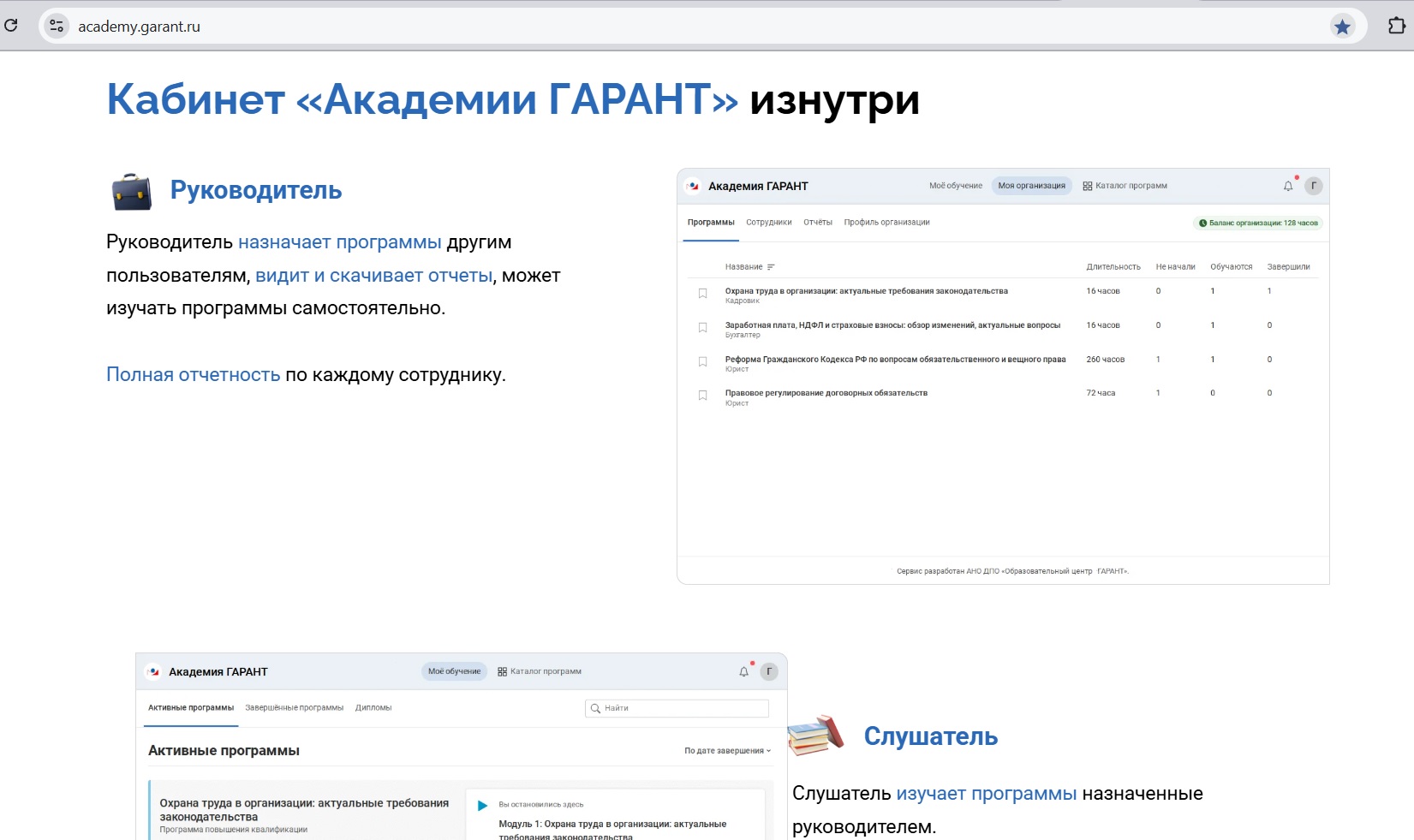В августе на призыв приехать на Троицкий раскоп в Великом Новгороде, чтобы помочь археологам его завершить, откликнулось больше 500 человек — в основном из Петербурга и Москвы. Для многих это стало первым подобным опытом. Но в России есть куда более экстремальные и тяжелые варианты участия в раскопках — люди едут туда и волонтёрят даже с приходом снега.
«Фонтанка» пообщалась с добровольцами из экспедиций от Великого Новгорода до Тувы и узнала, почему они так проводят свой законный отпуск.
«Поехал на раскопки, чтобы собрать материал для книг»
Троицкий раскоп — это место археологических изысканий вблизи Новгородского кремля. Работы здесь начала экспедиция под руководством археолога Валентина Янина больше 50 лет назад, в 1973 году. Работы курирует Новгородский музей-заповедник. В 2022 году по его же заказу, во исполнение поручений федерального правительства, был разработан проект национального археологического центра имени Янина на месте раскопа, а в 2024-м — разыгран тендер на его строительство на 1,7 млрд рублей. Исполнение контракта уже началось. В Новгородском музее-заповеднике пояснили «Фонтанке», что рассматривают вопрос о параллельном проведении работ: раскопки продолжатся или будут законсервированы там, где необходимо, а рядом начнут строительные работы (например, прокладку коммуникаций, создание стройгородка). Все шаги, говорят там, будут согласованы с археологами.
Волонтер Троицкого раскопа Марцис Гасунс — преподаватель санскрита и издатель книг, в основном по древнеиндийскому языку. Он разрабатывает издательские проекты и предлагает их к печати разным компаниям. Помимо учебников по санскриту и индийской литературе, Гасунс работает над изданием лекций и рукописей лингвиста Андрея Зализняка. Известный ученый был его преподавателем и научным руководителем во время работы над кандидатской диссертацией.
«Я поехал на раскопки в Новгород, чтобы собрать иллюстративный материал для новых книг на основе лекций Зализняка. В них много истории русского языка, поэтому мне нужно было разобраться с берестяными грамотами», — рассказывает Гасунс.
Наш собеседник провел в Великом Новгороде 13 дней, участвовал в раскопках. Всё это время жил в гостях у своего ученика. Рассказывает, что каждый приезжий волонтер сам выбирает вариант проживания: кто-то останавливается в хостеле, кто-то в гостях, некоторые приезжают с палаткой, но в черте города использовать ее бывает проблематично.
Марцис пояснил, что старался быстро и интенсивно выполнять тяжелую часть работы: лопатой срезал слои земли на участках 2х2 метра, относил грунт на отвал. И, как и все волонтеры, перебирал землю в поисках артефактов.


«Еще в августе я по согласованию с Новгородским музеем-заповедником опубликовал призыв к людям спасать этот раскоп. Ожидал, что приедут мужчины в возрасте 30 плюс, а приехали в основном девушки старше 18», — делится размышлениями Гасунс.
Он уверен, что личный опыт раскопок дает четкое понимание смысла и ценности тех предметов, которые мы видим в музеях: «Я пришел к выводу, что понять историю России невозможно, не поработав на раскопе».
«У ребят хорошее чувство юмора»
Петербурженка Виктория Курачаева руководит библиотечно-культурным центром «НОТА» и преподает дисциплину «Бизнес-процессы в креативных индустриях» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.
В августе она решила провести часть отпуска на Троицком раскопе, и это был ее первый опыт участия в археологической экспедиции. У женщины дача на новгородском направлении, под Любанью. Поэтому она бывала на раскопе «наездами»: приезжала, уезжала, делала перерыв, возвращалась. Вместе с ней ездила и ее большая белая собака.
«К раскопкам меня вела давняя жизненная история. Я с детства восхищалась историей Великого Новгорода, с детства у меня были книги о новгородских раскопках. Мне нравилось, что там была демократическая республика. Я часто приезжала в Новгород», — вспоминает Виктория.
Это лишь одна из причин. Кроме этого хотелось помочь археологам исследовать исторически значимые слои раскопа до начала строительства центра.
«Я как человек, работающий в культуре, понимаю, что мы можем потерять. Я хорошо отношусь к новым объектам. Но должен быть баланс между тем, что мы получаем, и тем, что теряем. Я понимаю, что значат госзакупки и какую сложность может представлять перенос сроков, если средства уже выделены», — отмечает Виктория.
Следует отметить, что законодательство защищает культурный слой древнего Новгорода в черте крепостного земляного вала Окольного города – он имеет статус памятника археологии федерального значения.
Еще одна нить, которая связывает петербурженку с новгородской археологией, — это проекты библиотечно-культурного центра, который она возглавляет. В частности, у него есть мерч с древнерусскими мотивами: например, брелоки в виде берестяных грамот.

мерч библиотечно-культурного центра «НОТА»
Поехав на раскопки сама, женщина увлекла этим и коллег: теперь и другие сотрудницы библиотек хотят провести свои выходные здесь.
«Я, как и другие волонтеры, перебирала землю в поисках бересты, остатков керамики. Нужно было обращать внимание и на такие вещи, как скорлупа от орешков. Некоторым везло с ценными находками: колокольчик, янтарные бусины, крестики, изделия из кожи. На соседнем участке нашли детские тапочки в идеальном состоянии. После нас землю проверяли еще металлоискателем», — вспоминает Виктория.
Еще одна ценность, которую женщина нашла на раскопках, — это сообщество увлеченных людей.
«Нам было весело, у местных ребят хорошее чувство юмора. Археологи рассказывали много интересного про XI век, наши находки касались как раз этого периода. Когда я уже вернулась в Петербург, на работу, мне продолжали писать и звонить, увлеченно рассказывая о том, что нашли на своем участке нечто новое», — рассказывает Виктория.
«В пятницу тринадцатого нашел древнего идола»
Дмитрий Юрин в Петербурге занимается промышленным оборудованием, автоматизацией и роботизацией производства. Живет в Кронштадте. До этого работал в разных сферах: от такси до строительства метро и «Лахта Центра». Но по первому образованию он историк-археолог — окончил истфак Новгородского государственного университета.
Узнав, что археологам Троицкого раскопа нужна помощь, Дмитрий решил освежить в памяти студенческий опыт.
«Мы в Новгороде с детства, со школы копали этот раскоп. А студенческую археологическую практику я проходил в Приильменье, там был IX век. После университета я не работал по специальности, но сейчас был рад провести часть отпуска на раскопе. Жаль, раньше не узнал, что нужна помощь, так бы и весь отпуск посвятил этому», — рассказывает Дмитрий.
Перебирая грунт, мужчина с азартом искал артефакты. Наемных рабочих раскопа пытался увлечь историей и говорил им, что здесь можно найти настоящее сокровище (в сентябре на соседнем, Воздвиженском, раскопе археологи действительно нашли клад X века). Впрочем, все находки, конечно же, складывали в специальные ящики с бирками для учета предметов.
«Много бересты, но в основном не грамоты. Были и другие интересные находки: кожаная деталь сумки, фрагменты древней лодки. Я нашел кусочек ткани — это считается ценным. В двух метрах от меня недавно нашли печать Владимира Мономаха. А один парень сзади меня, представляете, в пятницу тринадцатого нашел древнего идола! Навершие. Не лучший, конечно, день для подобных находок», — говорит Дмитрий.
Как и остальные волонтеры, он отдельно отмечает ценность сообщества археологов-любителей.
«Очень много интеллигентных, культурных, умных людей. Провести день в окружении энтузиастов, ученых — это ценно. Познакомился с людьми из разных городов. Общался с интересной девушкой из Москвы. Видел ученого старичка с бородой — он тоже волонтер. Был необычный парень-москвич: на хорошей машине, но с палаткой. В общем, я жалею только об одном — что узнал о волонтерстве на раскопе так поздно», — отмечает Дмитрий.
«Там с аквалангами ныряют»
Николай работает журналистом в Петербурге, а в свободное время уже 20 лет участвует в раскопках. Он учился на истфаке СПбГУ, на кафедре истории нового времени. В первый раз поехал копать в 2003-м, за компанию с друзьями-археологами. Отправился тогда в Смоленскую область, в эрмитажную экспедицию на неолитический памятник у деревни Сертея.
«Потом копал в Крыму, на Дону, в Туве, но всегда в те же годы был и на Сертее, куда так и езжу до сих пор каждый год. В этой экспедиции мы подписываем договор безвозмездной деятельности добровольца — проще говоря, работа за еду и билеты. Под поездки всегда беру отпуск: когда-то на три недели уезжал, сейчас уже не могу себе столько позволить. Никаких сожалений, хотя, конечно, это уже мем: по колено в сапропели и по уши в комарах вспомнить, что, вообще-то, это я отдыхаю», — рассказывает Николай.
Он признается, что привязался к раскопкам на Сертее. Уже нет ощущения, что лето прошло, как надо, если не заехал туда. Сейчас многие друзья — именно оттуда, и друзья друзей постепенно вовлекались. Раскопки стали важной частью жизни.
«На взгляд постороннего человека, наш неолит, конечно, проигрывает скифскому или греческому золоту. Но на самом деле там крутой памятник, и находки отличные. И, вообще-то, подводная археология: там с аквалангами ныряют, потому что часть поселения оказалась в русле канала», — говорит Николай.
У экспедиции есть многолетний волонтерский костяк, но очень выручают новые люди — и особенно студотряды, которые в последние годы стали приезжать в Смоленскую область регулярно.
Многослойное поселение Сертея-II исследователи открыли еще в 1972 году, но раскопки там ведут до сих пор. Здесь были обнаружены остатки свайных жилищ эпохи неолита. Большое количество влаги в этой местности сохранило предметы из органических материалов: в частности, предметы культа, рыболовные приспособления и оружие. Энтузиасты собирали деньги в том числе на водолазное оборудование для раскопок.
«Быть готовым к тому, как поведет себя организм»
Елизавета Староверова учится в МГТУ имени Баумана на инженера по радиолокации. Она выпускница музыкальной школы и в свободное время продолжает заниматься музыкой, играть на гитаре, — размышляя о том, чтобы, может быть, глубже погрузиться в индустрию. А еще девушка возглавляет археологический студенческий отряд «Атум» (назван в честь древнеегипетского бога-демиурга, который был одной из сущностей бога солнца Ра). Она присоединилась к нему три года назад и теперь каждое лето, в августе, ездит с другими студентами на раскопки.
В «Атум» рекрутируют в основном студентов-первокурсников МГТУ имени Баумана, но разрешено присоединяться и студентам других учебных заведений. В отряде с небольшим перевесом преобладают парни.
«Моя первая поездка была на раскопки в Рязанской области, рядом с поселком Шилово. Там мы копали культурное наследие рязано-окских финнов. В другой раз мы работали на территории Рязанского Кремля, это городская археология, другая атмосфера: жили в хостелах, а не в палатках. В прошлом году ездили в ХМАО», — рассказывает Елизавета.
В этом году отряд ездил на раскопки в Республику Тува в составе Азиатской номадической экспедиции Института истории материальной культуры РАН — на курган Туннуг 1. Девушка рассказывает, что климатические условия в Туве непростые: утром прохладно, днем в основном жаркое солнце, вечером погоду бывает сложно предугадать. Бывали и дни, когда практически непрестанно шел мелкий дождь — время от времени его приходилось пережидать в палатке.
«Нужно быть заранее готовым к тому, как именно твой организм будет себя вести в подобных условиях. Этим летом так получилось, что многие ребята по несколько дней не могли выйти на раскопки, потому что перегрелись или еще что-то в этом роде. В самой работе на памятнике ничего сложно нет: просто аккуратно вычищать камни на кургане, потому что между ними могут лежать косточки», — говорит Елизавета.
Самые характерные находки для кургана «Туннуг 1» — кости животных. В эту поездку волонтеры имели дело и с древним погребением, где были предметы быта и части конской упряжи.
Для Елизаветы каждая такая экспедиция — это возможность соприкоснуться с историей и культурой разных регионов, народов и встретиться с интересными людьми.
«В музее смотришь на экспонаты и думаешь: круто. А выезжая на раскопки, понимаешь, насколько сложно найти что-то интересное, — и в то же время всё это может оказаться буквально у тебя под ногами», — рассказывает Елизавета.
Она уверена, что в экспедиции всегда можно открыть для себя нечто новое — в том числе такое, что в учебнике по истории не напишут.
Международное исследование кургана «Туннуг-1» началось в 2017 году. Это раннескифский погребально-поминальный комплекс в Долине царей в Туве. В его центре — место для жертвоприношений. Впервые ученые обратили внимание на этот объект в 1970-х, во время раскопок соседнего кургана «Аржан-1».
«За день до моего отъезда мы обнаружили оленный камень»
Азат Набиуллин – инженер-программист, разработчик мобильных приложений. Живет в Москве, в свободное время занимается скалолазанием, старается уделять больше внимания семье. Последние пару лет изучает татарский язык.
Молодой человек признается, что на раскоп его привела давняя мечта. Еще в детстве он представлял себя археологом, историком, всю жизнь это было интересно. Объявления о возможности поехать на раскопки в Туву мужчина увидел минувшим летом в сообществе научно-просветительского портала «Антропогенез». Он посмотрел видео и фото в паблике экспедиции («Отъехавшие в Туву») — и понял, что ему это близко.
«Я связался с организаторами и уже через неделю был на кургане Туннуг-1. Сам долетел до Красноярска, а оттуда доехал на автобусе до Тувы. Раскопки ведут в стороне от населенных пунктов. До ближайшего села Аржаан — около полутора часов пешком, город еще дальше. За продуктами с экспедиционным водителем ездили раз в неделю», — говорит Азат.
Полевой палаточный лагерь организован посреди Турано-Уюкской котловины — в болотистой степной низине, окруженной горами, у реки Уюк. Этим летом здесь было много мошек и комаров. Погода оказалась более переменчивой, чем можно было ожидать.
«Я приехал в июне, и в первую мою ночь там температура опустилась ниже нуля. С утра была ледяная корочка на умывальниках. Я брал с собой спальник для холодных температур, но не настолько. Ужасно замерз. По совету ребят сделал деревянный поддон для своей палатки, поскольку дерево не пропускает так холод, как земля», — вспоминает Азат.
Мужчина отмечает, что быстро ко всему адаптировался. Оставаться на связи с близкими помогали солнечные панели, благодаря которым можно было подзарядить гаджет.
Всего на раскопе единовременно работали человек 20, и большая их часть — наемные рабочие, которые отвечали именно за то, чтобы копать. Курировали процесс и исследовали находки несколько сотрудников Института истории материальной культуры РАН. Помогали им находить и исследовать артефакты два-три волонтера.
Азат сначала прошел небольшое обучение, а потом занимался тем, что перетаскивал булыжники в отвал и очищал камни от дёрна. Задачей было найти следы культуры и быта древних скифов. Обнаруженные объекты и конструкции зарисовывали, стремясь понять: как это выглядело изначально. Мужчины в экспедиции больше таскали камни, женщины занимались кропотливой работой: искали и очищали мелкие элементы.
«На кургане много захоронений коней со снаряжением, удилами. Я лично находил крупные кости. А за день до моего отъезда мы обнаружили оленный камень. Это такая стела, на которую, за неимением письменности, наносили рисунки. На нашей были изображены серьга, оружие акинак и человек. Потом выяснилось, что это только часть стелы», — рассказывает Набиуллин.
Найденный оленный камень мужчина сравнивает по размеру с толстым монитором компьютера. Уже осенью на раскопках нашли еще одну часть этой же стелы. Общий ее вес составил, по примерным оценкам, килограммов сто — и это впечатлило.
«Мне было интересно общаться с местными, из Тувы были почти все. Особенно хотелось разговаривать с тувинской интеллигенцией — с историками, археологами, потому что они носители этой культуры. Одного товарища-историка я мучил вопросами про тувинский язык и географию региона. Татарский и тувинский относятся к одной языковой семье, поэтому было любопытно сравнить слова», — вспоминает Азат.
Он отмечает, что с удовольствием провел бы в экспедиции месяц, но не было возможности оставаться в отпуске так долго. Все его близкие и друзья были удивлены, что он в принципе поехал на раскопки, и многие даже не знали, что так можно.
В будущем Азат хотел бы участвовать в экспедициях еще — может быть, снова в Туве, на Кавказе, в других регионах страны. Возможно, уже не один, а в компании близких.
«Мне физически нравится так проводить отпуск, всё-таки у меня сидячая работа. Плюс мне всегда была интересна история. А здесь каждый день рядом с тобой эксперты в этой области. Да и просто приятно участвовать в раскопках, в исследовании. Пусть меня не будет в соавторах научной публикации, но потом будут говорить о скифском кургане Туннуг как о явлении. А я смогу сказать, что копал его в 2024 году», — говорит Азат.