
С 1 января 2025 года госорганам и госкомпаниям запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической инженерной инфраструктуры — соответствующий указ президента был подписан еще 30 марта 2022 года. Бизнес, со своей стороны, тоже стремится перейти на отечественное ПО, чтобы не зависеть от вендоров, ушедших из России. Однако не всегда есть подходящие продукты, или производительность и функционал отечественного аналога не в полной мере устраивает заказчиков.
Об успехах и сложностях импортозамещения в IT-сфере рассказали участники круглого стола «Фонтанки».






Хроники перехода
Количество софтверных продуктов в реестре российского ПО Минцифры РФ с 2018 по 2025 год фактически выросло в пять раз — с 5 000 до 25 000. Об этом рассказал Александр Логинов, вице-президент «Ростелекома».
— Ключевой вопрос не в количестве решений, а в их зрелости, — уточнил он. — Российские компании должны понимать, что при покупке отечественных решений они получают продукт, который способен конкурировать с зарубежными аналогами по функциональным характеристикам: в ином случае замена может отразиться на непрерывности производства и качестве оказания услуг.
Он подчеркнул, что постепенный переход на отечественное ПО «Ростелеком» начал задолго до 2022 года, что позволило в конце 2024 года отчитываться об успешной реализации плана: 70% IT-решений, задействованных в бизнес-процессах, — собственные разработки компании, которая выступает как в роли крупного потребителя отечественных решений, так и поставщика импортонезависимого ПО на рынок.
— В настоящее время в Реестр Минцифры включено более 303 IT-продуктов, созданных нашими коллегами — и в «Ростелекоме», и в наших дочерних организациях. Более того, 14 проектов компании получили статус особо значимых, — добавил Логинов.
Наиболее успешно переходят на отечественное ПО Министерство обороны, налоговые органы и учреждения здравоохранения; заметен рост разработки и внедрения российских программных решений особенно в таких секторах, как финансы и образование. Об этом сообщил Кирилл Манжура, CEO IT-компании LARD, проекта финансово-инвестиционного холдинга «Лидер Консалт».
— Мы внедряем собственные технологии: используем CRM-систему, которая соответствует западным аналогам, и уделяем особое внимание кибербезопасности, — добавил он. — Наши решения по защите данных позволяют снизить зависимость от иностранных технологий.
Кирилл Манжура отметил, что наиболее уязвимыми оказались сферы, где была сильная зависимость от иностранных технологий: например, облачные решения и программное обеспечение для кибербезопасности. Также это касается финансового сектора, который использовал зарубежные платформы для обработки данных и транзакций.
— У компаний нефтегазового сектора импортозамещение инфраструктурного ПО и «железа» уже реализовано на очень высоком уровне. Причем это касается и отечественного железа и отечественного ПО, — заявил Виталий Фираго, заместитель генерального директора по продажам федерального системного интегратора «Аметист».
Единственное, где еще немного есть отставание, — это специализированное ПО, но в ближайшее время с этим тоже не будет проблем, считает он.
В сфере информационной безопасности (ИБ) явный тренд на импортозамещение начался ещё в 2014 году. Поэтому компании того же нефтегазового сектора давно взяли курс на отечественное ПО в ИБ и придерживаются его, прокомментировала Светлана Лагутина, и. о. заместителя начальника аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис».

Светлана Лагутина, и. о. заместителя начальника аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис»
— Однако видится дефицит нишевых средств защиты, таких как системы управления поверхностью атаки, системы анализа и фильтрации DNS-трафика и другие. Опять же, в ИБ очень важны доверенные средства защиты, поэтому требования к ним обычно жёстче, чем к IT-продуктам, — локализованное производство, непрерывное тестирование и анализ кода на наличие уязвимостей на протяжении всего жизненного цикла продукта. И этот процесс мы выстроили у себя в компании и оказываем эти услуги на открытом рынке. В реестре отечественного ПО порядка 30 решений «Газинформсервиса», включая редкие для отрасли решения: например, тестирование кода ERP-систем (SAP, 1С и прочие), — уточнила она.
— С точки зрения заказчиков — т. е. бизнеса, пользующегося IT-продуктами, — лучше всего обстоит дело с сетевым ПО, информационной безопасностью и другими общими программами, — рассказал Роман Викторов, заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Карелия Палп».
— Что касается специализированного ПО в производственном секторе и, как ни странно, офисного, то еще есть, что замещать, — подчеркнул он. — В целом же нам удалось «заместиться» на 60-70%, по остальным мы находимся либо в стадии анализа, либо в стадии ожидания подходящих продуктов.
— С точки зрения критической инфраструктуры — операционные системы и серверные решения — основное уже сделано, и большинство компаний шли к этому после 2014 года, — согласился Владимир Стригун, основатель и генеральный директор компании «Унисон Текнолоджис», создатель российского корпоративного мессенджера YuChat. — Но общаясь с нашими клиентами, с представителями как среднего, так и энтерпрайз бизнеса, понимаем, что есть еще много решений, которые нужно заместить. Например системы в области обработки больших данных, системы проектирования — в целом, узкоспециализированные решения.
Самая печальная ситуация сегодня с импортозамещением промышленного софта: систем проектирования, технологической подготовки, планирования производства, отметил Илья Скрябин, генеральный директор компании Connective.
— В целом российское ПО сегодня можно использовать для разработки несложного оборудования в области машиностроения, энергетики, электротехники. Ту же опору линии электропередач или промышленное котельное оборудование можно спроектировать с достойной производительностью, — рассказывает он. — Но если мы говорим о проектировании и производстве бытовых изделий, то даже простейшие вещи из пластика сейчас невозможно разработать на российском ПО: разработать пресс-форму для литья пластика либо невозможно, либо трудоемкость работы инженеров будет в десятки раз выше. Аналогично дела обстоят при проектировании штампованных деталей для автопрома. Тут же можно отметить, что системы проектирования электронных изделий почти повсеместно иностранной разработки. Я могу дать еще десятки примеров отраслей, в которых российское ПО применять невозможно.
Что касается планирования производства, то, по словам Ильи Скрябина, крупные компании могут себе позволить заместить решения SAP на российские. У среднего же бизнеса сейчас такой возможности нет: это стоит слишком дорого, а специализированные решения еще не достигли нужной степени проработки, «коробочной» формы, чтобы их можно было внедрять с низкой трудоемкостью и, соответственно, с доступной стоимостью для среднего и малого бизнеса.
— Инженерные компании либо вынуждены использовать тот софт, который они купили давно, либо частично импортозамещать, — говорит он. — По моей оценке, какие-то изделия, те же автомобили, мы сможем проектировать и производить полностью самостоятельно лет через 10, а до этого будут появляться какие-то фрагментарные вещи, которые кто-то, возможно, аккумулирует.
Сергей Житинский, генеральный директор компании Git In Sky, считает, что настоящее импортозамещение началось именно после 2022 года, а до этого большинство проектов просто лежали на полках: базовое ПО, операционные системы, виртуализация и т. п. В 2023–2024 годах началось внедрение на практике.
— В результате обнаружилось, что российский софт, конечно, сыроват: он фактически с 2022 года начал активно использоваться — и его просто не успевают дорабатывать, — отмечает он. — Поэтому приходится руками внедренцев писать «костыли», без которых пока не обойтись при переходе на новые версии, так как просто «нажать кнопку» и переключиться нельзя.
В целом же пользователи разделились на две группы: одни продолжают применять западное ПО по разнообразным «серым» схемам, другие, наоборот, не хотят столкнуться с риском, когда все внезапно перестанет работать, и переходят на отечественные, пусть иногда и сырые, варианты.
— Мы проводили исследования: в коммерческом секторе больше тех, кто разными путями пытается «пересидеть» на том программном обеспечении, которое им знакомо и понятно, пусть и не прогнозируемо, — отметил Роман Викторов. — Причина в том, что, к сожалению, пока производительность работы в импортозамещенном ПО, как правило, немного ниже. То есть базовый функционал работает, все основные фишки — тоже, но если раньше эту работу выполняли три экономиста, то теперь требуется 4-5. Бизнес себе это позволить не может.
Но многие, в том числе и «Карелия Палп», по его словам, все же переходят на отечественный продукт. Для этого вместе с вендором пишется «дорожная карта» перехода, выделяются пилотные зоны, все плавно внедряется с постоянным контролем техподдержки, а опыт компании позволяет «допиливать» ПО.
— Я бы импортозамещение назвал немножко иначе: нас пустили на свой собственный рынок, — говорит Дмитрий Завалишин, генеральный директор группы компаний DZ-Systems. — Но теперь на него надо прийти, пройти весь цикл: выстроить маркетинг, наладить производство, продажи. И то, что мы видим, — это процесс, который абсолютно нормален. Но я понимаю и те компании, которые продолжают пользоваться тем, что было, и не хотят переходить на «сырой» софт, создавая себе проблемы. С другой стороны, как и любой пожар, это некоторый шанс для бизнеса: с нашими игроками рынка можно договориться, сделать именно то, что нужно тебе, тогда как с мировыми монополистами это было невозможно.
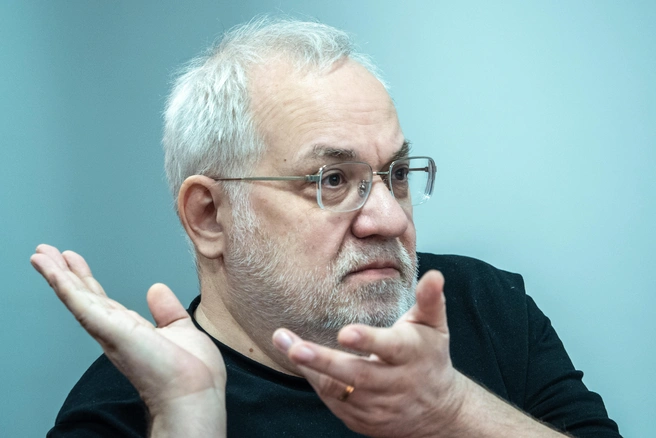
Дмитрий Завалишин, генеральный директор группы компаний DZ-Systems
Вадим Юсупов, генеральный директор компании «Формат кода», комментирует, что в госсекторе есть четкие сроки перехода на отечественное ПО в зависимости от деятельности: для образовательных технологий — до 01.09.2024; для объектов критических информационных инфраструктур — до 01.01.2025, для остальных органов госвласти — до 01.01.2028–2031. В то же время переход на отечественные системы управления базами данных — до 01.01.2026.
— Если проверить, как это реализовано в госсекторе, наверное, можно, то в частном бизнесе сложно сказать, — отметил он. — Все зависит от степени погруженности бизнеса в западное ПО и наличия средств на «переобувание».
Наибольших успехов удалось добиться в таких сегментах рынка, как операционные системы и базовое программное обеспечение. Здесь драйвером цифрового суверенитета выступил, по понятным причинам, военно-промышленный комплекс. Об этом рассказал Вадим Юсупов. Кроме этого, неплохо идут дела в инфраструктурном ПО, офисном и прикладных системах, развиваются системы инфобезопасности, хотя с ними есть частные вопросы и трудности, как и с бизнес-софтом.
Эксперт выделил несколько очевидных проблем с импортозамещением:
Решение есть, но его качество не отвечает требованиям бизнес-процессов компании.
Отечественное решение сложно интегрировать в инфраструктуру организации.
Нет требуемого отечественного аналога (решения).
Решение дорогое и при этом невысокого качества.
— Всё верно, бизнес остаётся бизнесом и оценивает изменения с позиции рентабельности: чем грозит остановка того или иного бизнес-процесса, каковы будут финансовые и репутационные потери. Управление рисками рассматривается через призму экономической эффективности. Приходит время, когда импортозамещение становится не вынужденной мерой, но разумным, продуманным решением, — отметила Светлана Лагутина.
Новое или старое
Впрочем, уже есть и крупные игроки, которые вполне могут занять место ушедших, монополизировав рынок, отметил Дмитрий Завалишин. И это не самая благоприятная ситуация, т. к. растут цены. Кроме того, ряд продуктов действительно требует доработки, и не все внедряется так быстро, как хотелось бы клиентам.
— С другой стороны, два года прошло, и уже есть направления, в которых успех безусловный, абсолютно понятный и, я очень на это надеюсь, безвозвратный, — считает эксперт. — То есть даже когда все вернется обратно, по-старому уже не будет. Но если на массовом, системном софте все эти процессы проходят проще, есть узкоспециализированный софт, который не факт, что в принципе мы сможем заместить.
Илья Скрябин считает: опасность ситуации заключается в том, что сегодня зачастую российские разработчики за госбюджет копируют зарубежные решения прошлого поколения. А иностранные компании вкладывают средства в новые концепции — например в системы облачного проектирования, облачного учета и т. п.

Илья Скрябин, генеральный директор компании Connective
— И пока мы тратим деньги на то, чтобы «допилить» систему, тот же SAP занимается разработками. И через 10 лет у них будет новый продукт, а у нас — устаревший, — говорит он. — Поэтому необходимо поддерживать тех разработчиков, которые сейчас в тени, но создают собственные концепции, которые будут отвечать требованиям времени. Возможно, крупные компании выкупят их и создадут продукты уже для рынка. Я этого очень жду, так как назрела потребность в повышении производительности: без тяжеловесных систем с долгим внедрением — что-то более легкое, простое для понимания каждого. И на это у меня надежда. А копировать то, что уже есть, на технологических платформах, которые разрабатывались все эти годы, — такое себе достижение. Нужно осознавать, что все-таки это временное решение, чтобы переждать тяжелое время.
Вадим Юсупов отметил, что наибольшие трудности с уходом западных вендоров возникли с системами управления и развития бизнес-процессов: речь про CRM и ERP-системы. Такая же ситуация и с системами управления проектами и специализированным программным обеспечением, заточенным под определенные индустрии.
— На российском рынке нет полноценных аналогов иностранных PLM-систем, управляющих жизненным циклом продукции, — считает он. — Кроме того, не хватает своих специализированных операционных систем для авиации, автопрома, медицинской техники. Неважно обстоит дело с технологиями цифровых двойников, ПО для автоматизации сборочного процесса, платформ для разработки программного обеспечения.
— Сейчас отечественные продукты активно развиваются, но окончательную оценку можно будет дать лишь через несколько лет, когда накопится больше опыта и отзывов, — считает Кирилл Манжура.
Он рассказал, что сейчас рынок может предложить качественные альтернативы зарубежным аналогам.
— Например, один из наших клиентов, крупный производитель, столкнулся с проблемами из-за ухода зарубежных поставщиков. Мы предложили им сборку из отечественного софта, который полностью заменяет зарубежные решения, — говорит Кирилл Манжура. — Это позволило безболезненно перейти на наше решение, минимизировав риски и сокращая время на обучение сотрудников. Важно отметить, что при разработке мы учитываем требования рынка и стремимся к тому, чтобы наши решения были не только функциональными, но и удобными в использовании.
— Что касается совместимости, то здесь мы ведем работу по интеграции с иностранным ПО, чтобы сделать переход как можно более плавным. Это позволит нашим клиентам минимизировать прерывания в бизнес-процессах и легче адаптироваться к новым условиям, — добавил он.
Светлана Лагутина заметила: для российских разработчиков сейчас «золотое время», чтобы заявить о себе.
— Мы ежегодно проводим «Биржу ИБ- и IT-стартапов». Там появляются команды с очень интересными решениями, ранее не представленными на открытом рынке. При этом уровень зрелости таких решений позволяет сразу начать их промышленное применение без существенных доработок, — говорит она. — Также проводим CTF- и киберигры как среди студентов, так и с участием опытных пентестеров, где команда красных атакует информационную инфраструктуру, а команда синих её защищает. Там мы видим молодых талантливых специалистов, играющих почти на равных с мастерами. Мы сотрудничаем с такими командами, предлагая дальнейшее развитие им и их идеям и находкам.
Дмитрий Завалишин напомнил, что российский рынок IT изначально развивался как рынок рабочей силы для западных компаний: программисты работали на аутсорс, а клиенты потом покупали иностранные продукты. Но в последнее время все-таки начали формироваться проектные офисы, команды непосредственно здесь. И сейчас эта сфера перешла на следующий уровень.
— Создается много продуктовых компаний, у которых появляются новые компетенции именно по разработке нового ПО, — отмечает он. — Да, пусть этот софт не лучший на свете, но заодно формируются и компетенции по взаимодействию с клиентом, маркетингу — это огромный пласт того, что мы не умели до этого момента делать. Успех не возникнет на пустом месте.
Владимир Стригун добавил, что в России уже сформировалось понимание того, как должен выглядеть хороший программный продукт.

Владимир Стригун, основатель и генеральный директор компании «Унисон Текнолоджис»
— И мы видим, что сейчас компании-разработчики создают именно собственные продукты, а не дорабатывают уже имеющиеся opensource-решения и не копируют западные продукты, — комментирует он. — Такое направление мне кажется очень перспективным, потому что появилась экспертиза, появились новые технологии и понимание, как должно выглядеть идеальное ПО. Мы научились слышать заказчика и сейчас в силах удовлетворить любую потребность клиента.
Важным вопросом, по словам Ильи Скрябина, стал выбор ПО взамен ушедшего: если раньше он был более-менее очевиден за счет присутствия ведущих мировых вендоров, то сейчас клиент должен искать среди множества разработчиков, которые зачастую не сотрудничают между собой.
— Значит, и с точки зрения интеграции систем тоже все стало гораздо сложнее, — отметил он. — Поэтому рынок придет к тому, что крупные игроки будут так или иначе кооперироваться либо поглощать другие компании, чтобы создать полный набор решений. Тогда нашему заказчику — IT-директору — будет проще работать и не надо будет плодить свои отделы внутри компании, создавать целые службы техподдержки и т. п.
Кроме самого софта нужны еще и методики его внедрения, напоминает Илья Скрябин, чтобы предприятия могли успешно освоить новые технологии.
— Конечно, всё не делается по щелчку: каждое новое решение необходимо протестировать в лабораторных условиях, потом в полевых, — отмечает Александр Логинов. — Нужно понять, насколько продукт совместим с теми, что уже имеются. И при необходимости создавать дополнения для успешной и безболезненной интеграции.
Поэтому главный вызов для импортозамещения сейчас, по его словам, — создание совместимой с российским ПО аппаратной части. Речь идет о программно-аппаратных комплексах. В телеком-сфере идет активная разработка отечественных базовых станций, а также оборудования ядра сети. При этом важно, что совместимость с зарубежными продуктами сохраняется. Но главное требование заключается в том, чтобы российские решения были совместимы друг с другом. Это касается не только ПО, но и радиоэлектронной аппаратуры.
Виталий Фираго в качестве основной проблемы перехода на отечественное ПО назвал то, что пользователям необходимо привыкать к новой логике и новым интерфейсам, а это вызывает естественное сопротивление.
— В принципе и российское ПО, и даже «железо» все необходимые функции выполняют. Но чтобы добиться того же результата, необходимо иначе подойти к процессу работы. Это вызывает определённый негатив, — пояснил он. — Пройдет еще лет пять, прежде чем новые продукты станут столь же естественными и привычными, как те, которыми пользовались до этого.
Светлана Лагутина также отметила высокий уровень юзабилити западного ПО, поскольку его оттачивали на протяжении многих десятков лет. Для наших разработчиков сейчас это не менее важно.
— Если говорить о трудностях перехода, требуется немало времени, чтобы совместить различные решения между собой. Но сейчас в сфере ИБ наметились тенденции по разработке понятного, открытого инструментария интеграции, разработчики создают и описывают API-интерфейсы, чтобы заранее наладить взаимодействие продуктов и обеспечить быстрый процесс интеграции на объекте, — бесшовное обеспечение ИБ, — добавила она.
Российские продукты развиваются с гораздо большей скоростью — и тот путь, который западные продукты прошли за 20 лет, некоторым удается преодолевать за 2 года, считает Роман Викторов.
При этом выбирать — не проблема, а вот обосновывать выбор часто очень непросто, потому как основан он может быть на личных предпочтениях. Причем в некоторых сегментах продуктов даже с избытком: например, сейчас есть около 20 различных ВКС-систем.

Роман Викторов, заместитель генерального директора по информационным технологиям компании «Карелия Палп»
— Зачем столько? В моменте они были востребованы, но в будущем, вероятно, останется 3-4, которые себя зарекомендуют, — отмечает Роман Викторов. — А что делать остальным? У них собраны команды разработчиков, вложены деньги — остается либо зафиксировать убытки, либо заранее переориентироваться на другие продукты. Было бы полезнее для всех, чтобы они сейчас занимались чем-то более необходимым: направлений — масса.
— За последние десять лет в России развилось множество направлений в области системного ПО, включая системы резервирования, виртуализации, управления базами данных и операционные системы. Сегодня почти везде есть как минимум два производителя, то есть говорить о внутрироссийской конкурентности в этой среде можно, — добавил Александр Логинов. — В целом же при оценке отечественного и зарубежного продукта нужно в первую очередь сравнивать функциональность по конкретным классам ПО. Вопрос не столько в зрелости, сколько в способности и готовности вендора дорабатывать и улучшать продукт в диалоге с заказчиком. Поэтому важно следить за динамикой обновлений. Многие отечественные компании открыты для такого диалога и действительно стремятся развивать свои решения.
Для дальнейшего развития российского IT-рынка очень важно расширение рынка: в России им просто не хватит денег, чтобы развиваться, считает Дмитрий Завалишин.
— У США и Германии рынок — весь мир, у Китая есть Китай, что почти равнозначно всему остальному миру, а у нас только Россия и СНГ. За пределами России рынок бедный, — пояснил он. — Нам логичнее смотреть на Латинскую Америку, Индию, арабские страны. Но потребуются значительные усилия, чтобы туда пробиться. Традиционно Россия — это компания инженеров: мы хорошо изобретаем, но плохо делаем массовые вещи. Поэтому, с одной стороны, нам нужно двигаться в сторону тех, кому нужны именно инженерные разработки, а с другой — развивать маркетинг.
В свою очередь, Виталий Фираго считает, что на ближайшую перспективу России отечественным компаниям будет достаточно, а выходить за рубеж и развивать продажи на внешние рынки естественным образом получится тогда, когда внутренний уже будет насыщен.
— Это закон экономики: нашим компаниям дали возможности развиваться на собственном рынке, и они активно их используют. Когда те закончатся, начнется экспансия. Наверное, так же действовали и западные компании в свое время, — отметил он.
Илья Скрябин также заметил: пока что нашим разработчикам еще есть что почерпнуть из новых трендов. Но надо не только копировать, но и вставать на путь изобретений.
— Сейчас у нас этап «феодальной раздробленности», когда мы набираем программистов и пишем софт для того, чтобы дойти до мирового уровня. На маркетинг же денег пока не хватает, но все равно придется в дальнейшем выделять на это ресурсы, — заметил он.
В этом помогут те специалисты, которые получили опыт в западных компаниях, но не уехали, а остались в России.
Что касается инновационных разработок, то здесь, по словам Дмитрия Завалишина, нужны существенные инвестиции с очень большим риском невозврата.
И, конечно, всем нужны кадры — причем квалифицированные. Это отдельная большая тема для разговора.
Меры поддержки
В середине 2024 года айтишники Петербурга и Москвы были неприятно удивлены отменой программы IT-ипотеки для столичных регионов. Эта мера поддержки точно не была лишней, говорят эксперты.
— Для людей, которые работают у нас в компании, это был дополнительный бонус, — отметил Виталий Фираго, — и, конечно, при общем мнении, что государство поддерживает айтишников, это было неожиданно.
— Ввести такую меру было мудрым решением, оно очень помогло поддержать начинающих специалистов и удержать их в отрасли. У нас не все успели взять ипотеку — надеемся, что в этом направлении будут ещё предприняты какие-то действия, — соглашается Светлана Лагутина.
Помимо этого, важным направлением господдержки она назвала создание научных школ, которые будут объединять ученых в разработке новых технологий — в том числе в сфере искусственного интеллекта и обеспечении его защиты. В этом направлении сейчас видится большая заинтересованность — и со стороны государства. Например, создан Консорциум для исследований безопасности технологий искусственного интеллекта, в который вошла и организация, где работает эксперт.
— Нам надо создавать свои наборы данных для обучения ИИ, выстраивать процессы безопасной разработки и обучения моделей машинного обучения. За границей в это вкладывают деньги. Мы не должны отставать, — резюмировала Светлана Лагутина.
Илья Скрябин высказал мнение, что поддержка IT-отрасли значительно сократилась с 2022 года.
— Я знаю несколько компаний, которые до 2020 года вышли на рынок искусственного интеллекта за счет госпрограмм, — отметил он. — Они получили финансирование, которого было достаточно для разработки неплохих нишевых решений — сейчас уже конкурентоспособных. Компании вышли на сотни миллионов рублей выручки. Сейчас по факту программ поддержки нет.
Также Скрябин заметил, что в 2025 году IT-компании лишились части налоговых льгот, в связи с чем ухудшится их финансовое положение.
— Создание новых решений действительно требует больших вложений, — комментирует Владимир Стригун, — и сейчас поддержки в этом направлении практически нет. Ранее компании могли получить финансирование или инвестиции в инновационных кластерах, сейчас же максимум — это статус резидента и налоговые льготы. Высокие ставки по кредитам сильно тормозят компании в развитии.
Отмена IT-ипотеки в столицах, по его словам, неблагоприятно скажется на работодателях: молодые кадры, возможно, предпочтут остаться в регионах. Хотя для последних это, возможно, и плюс.
— Отмена льготной ипотеки действительно поставила многих молодых специалистов в затруднительное положение, но мы надеемся на скорые изменения, — комментирует Кирилл Манжура. — В целом же сегодня уже существуют различные программы, но хотелось бы видеть больше инициатив, направленных на более быстрое финансирование новых стартапов, обучение специалистов и развитие инфраструктуры для их работы.
— Нам сейчас не хватает программ поддержки для создания новых продуктов, каких-то грантов, которые были раньше, — комментирует Дмитрий Завалишин. — А сейчас как раз нужно создавать эти продукты, и нести эти риски готовы совсем немногие. Ситуация с 20 продуктами ВКС создает ситуацию, когда инвестиции дробятся на очень большое количество игроков, а средств на что-то серьезное не хватает. Поэтому государству актуально поддерживать продуктовое направление, чтобы создавать что-то свое.
По его словам, помочь также может создание площадок для брокериджа, где могут встречаться потенциальные заказчики и исполнители.
— Любая технология, которую ты придумываешь и делаешь «в воздух», всегда неправильная, пока не найдешь своего клиента и не опробуешь на практике, — комментирует Дмитрий Завалишин. — А если есть заказчик, который готов хотя бы немного денег заплатить, это оживляет проект и направляет в правильную сторону. Для того, чтобы организовать такое взаимодействие, не нужно существенное финансирование, а эффект будет большой. Сейчас это происходит на уровне сильных регионов, а нужно федерализовать.
Роман Викторов заметил, что ждет исполнения в 2025 году целого ряда законодательных инициатив.
— Например, в реестр отечественного программного обеспечения будут включены только те решения, которые ориентированы на реальный коммерческий рынок, — говорит он. — Ключевым требованием станет наличие выручки от независимых клиентов. Для нас это однозначный плюс. А такой он потому, что сегодня многие продукты, включенные в реестр, создаются «для галочки». Госкомпании, наверное, вынуждены их покупать, потому что альтернатив у них просто нет. Уверен, подобные инициативы помогут развитию рынка. Где-то даже запретительные помогут — внедряются они, кстати, быстрее.
— Любые меры государственной поддержки нужны российским разработчикам, особенно малому и среднему бизнесу, — считает Вадим Юсупов. — Как показывает опыт, даже налоговые преференции дают взрывное развитие отрасли, а их отмена — наоборот. Это касается и отмены IТ-ипотеки для двух столиц, где сосредоточены основные IТ-кадры страны. А кадры, как известно, решают все.
Дмитрий Завалишин предложил и вовсе запретить госкомпаниям в принципе содержать внутренних разработчиков, т. к. в этом случае много средств тратится на создание одинаковых по сути внутренних продуктов, которые никогда не выходят на рынок. Тогда как актуальнее делать универсальные для всех.
Самой главной мерой поддержки, которая была до сих пор, Сергей Житинский считает налоговые льготы.

Сергей Житинский, генеральный директор компании Git In Sky
— Сейчас же любое направление бюджетов в IT будет полезно. Иными словами, дайте денег компаниям — они нас наймут, чтобы разработать ERP-систему или еще что-то действительно необходимое, — подчеркнул он.
— О мерах поддержки говорят много. Однако это не единственный способ мотивировать развитие отечественной IT-индустрии, — считает Александр Логинов. — Крайне важно стимулировать не только спрос на отечественные решения, вводя минимальные доли закупки для госкомпаний, но и побуждать вендоров дорабатывать свои решения. В первую очередь это касается функциональных требований к ПО в Реестре.
Эксперт считает, что сейчас в ряде случаев российская продукция оказывается дороже зарубежных аналогов. Поэтому льготные кредиты на покупку российской РЭП могли бы стать хорошим стимулом для ее приобретения.
Александр Логинов также отметил, что ключевая задача сейчас — узнать, какой запрос есть у потребителя, и понять, что могут дать российские поставщики. Исходя из этого, должны выстраиваться меры государственной поддержки.
— Именно создание отечественной компонентной базы позволит обеспечить технологическую независимость, — подчеркнул он. — Это особенно важно, когда речь идет о критической информационной инфраструктуре. С этой точки зрения важно сохранять диалог между регуляторами и бизнесом, чтобы требования регулятора к набору и функциям ПО, а также к срокам его реализации отвечали реальной ситуации на рынке российской микроэлектроники.
Виталий Фираго еще раз подчеркнул: необходимо, чтобы государство вкладывало деньги в фундаментальное развитие, чтобы росла база знаний.
А вот мнения относительно дальнейшего действия санкций и ограничительных мер разошлись. С одной стороны, российские разработчики хотели бы также присутствовать на мировых рынках, с другой — в данный момент большинство участников не хочет, чтобы на российский рынок вернулись мировые вендоры. Конкуренция нужна, но требуется еще минимум 5–10 лет, чтобы наши компании могли конкурировать с западными на равных. Открывать мгновенно нельзя — и в одностороннем порядке тоже, считают эксперты. Но и долго держать рынок закрытым также может оказаться пагубным для его развития.


















