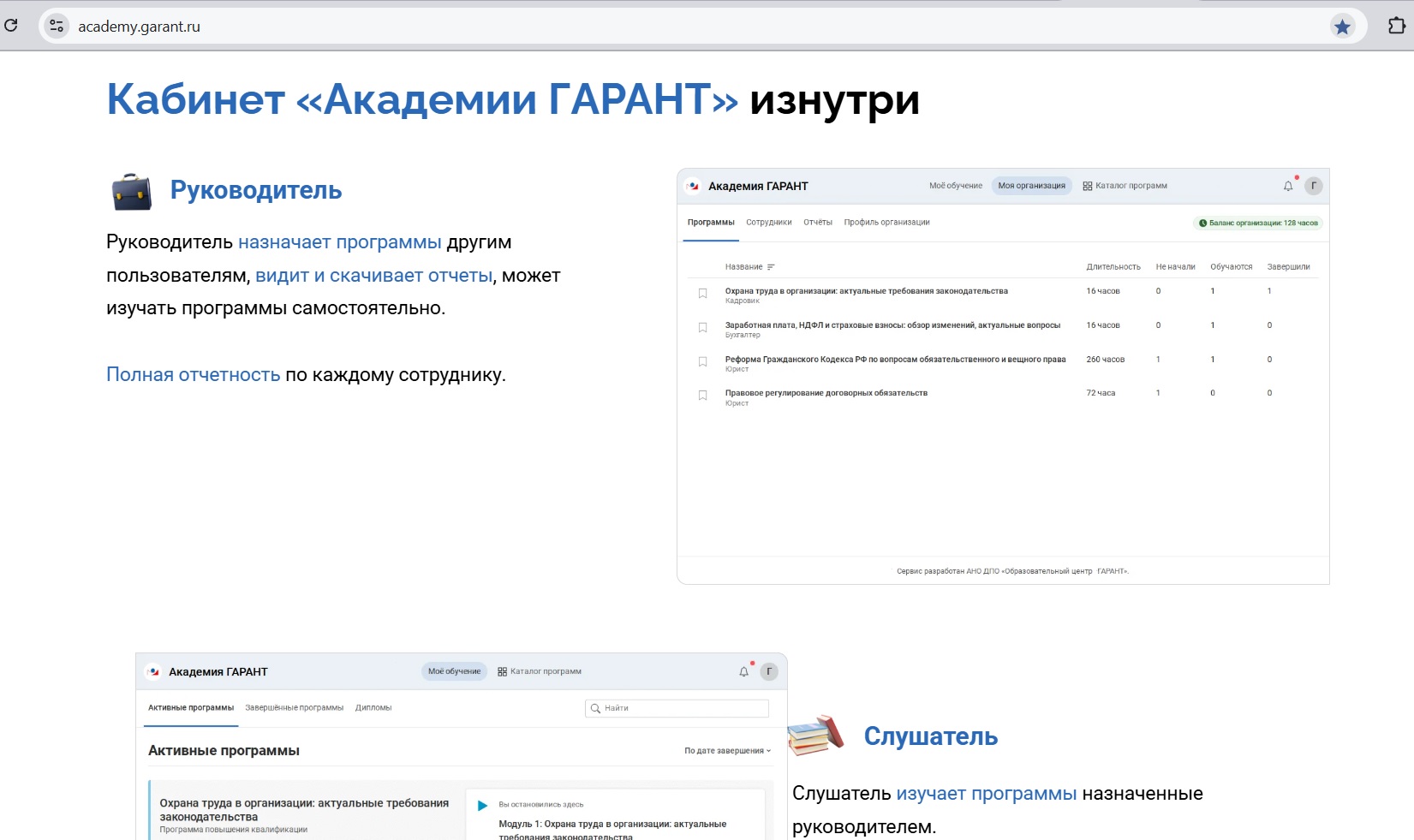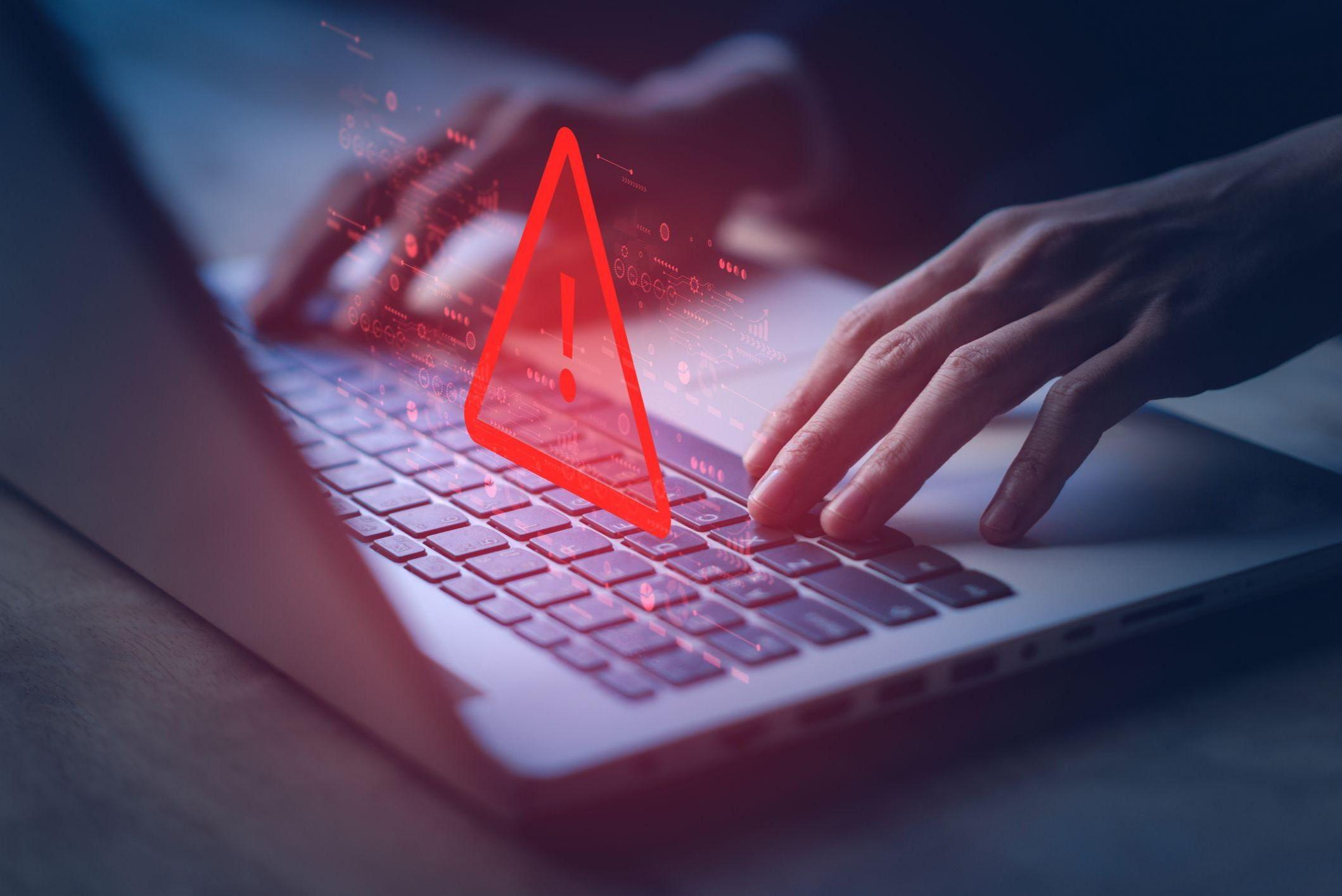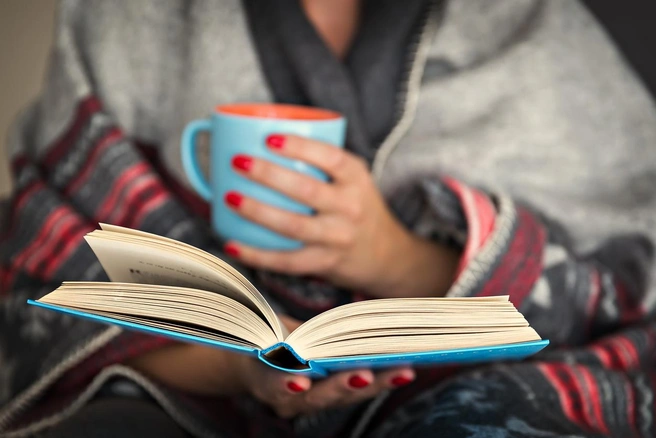
В новогодние праздники мы читали большие романы, разбирали покупки и подарки или, может быть, просто смотрели на дождь (снега-то не было). Тем временем издатели вышли с каникул, и год начался с целого «созвездия» интересных нехудожественных книг. Насколько быстро алгоритмы убьют свободу творчества и самовыражения? Зачем на Балканах в доме с новорожденным ребенком жгут изношенную обувь? Где брали модные вещи наши бабушки? Это и многое другое узнаем из зимних книжных новинок.
«Шерсть дыбом: медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы», Мэри Роуч, пер. Галины Бородиной, 16+
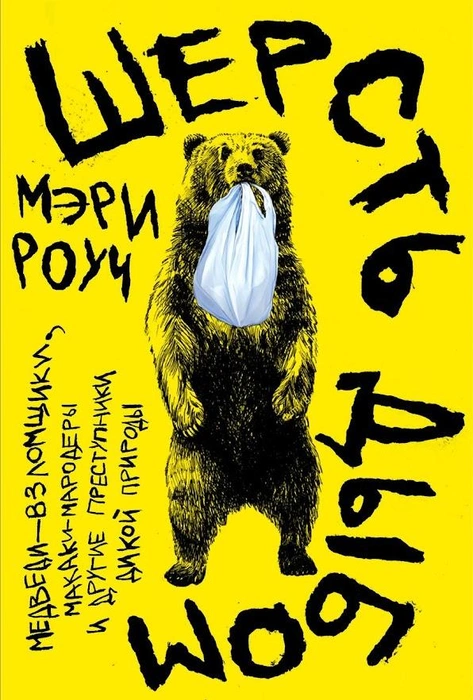
Мы с детства учимся беречь природу, но очень часто представители фауны — слишком уж нахальные братья меньшие. Традиция папы римского выпускать раз в год белоснежного голубя мира прекратилась, когда этого голубя сбила чайка меньше чем через минуту после торжественного взлёта. Вороны крадут ключи и драгоценности. Еноты ворошат посылки. Макаки портят бытовую технику. Пауки в ванной — это просто страшно.
Биолог Мэри Роуч написала очень живую и забавную книгу о механизмах поведения, которые заставляют животных вытворять всякие мерзкие фокусы даже тогда, когда человек и не думал вторгаться в их среду обитания и хоть как-то их ущемлять. С симпатией и к человечеству, и к миру животных, живо и с юмором она рассказывает о великом противостоянии, начавшемся еще в незапамятные времена — когда переписчики священных книг в сносках бранили мышей, а чиновники подсовывали в крысиные норы повестки в суд.
26 июня 1659 года представитель пяти городов одной из провинций Северной Италии инициировал судебное разбирательство в отношении гусениц. Гусеницы, сообщалось в исковом заявлении, вторгаются в чужие владения и подворовывают в садах и огородах местных жителей. Насекомым выписали судебную повестку, размножили ее в пяти экземплярах и приколотили к деревьям в лесах по соседству с каждым из городов. Гусеницам приказали в указанный час 28 июня явиться в суд, где им назначат законного представителя.
Естественно, в назначенное время гусеницы в суд не пришли, но делу тем не менее дали ход. В сохранившемся документе суд признает право гусениц жить свободно и счастливо — при условии, что это не «мешает счастью людей…». Судья постановил, чтобы гусеницам выделили другой участок земли, на котором они смогут добывать пропитание и наслаждаться жизнью. К тому времени, как были проработаны все детали, ответчики уже окуклились и прекратили разорять сады, так что все стороны судебного процесса без сомнения остались довольны его исходом.
Дело это описано в необычной книге, изданной в 1906 году: «Уголовное преследование и смертная казнь животных». Когда я впервые ее пролистала, то подумала, что это, должно быть, какая-то грандиозная мистификация. Там рассказывалось о медведях, официально отлученных от церкви, о слизняках, которым трижды выносилось предупреждение, что они должны прекратить досаждать фермерам под страхом наказания. Но автор, уважаемый историк и лингвист, быстро развеял мои сомнения обилием деталей, взятых из подлинных документов, девятнадцать из которых помещены в разделе приложений на языке оригинала.
«Триумф домашних тапочек», Паскаль Брюкнер, пер. Натальи Мавлевич, Издательство Ивана Лимбаха, 18+
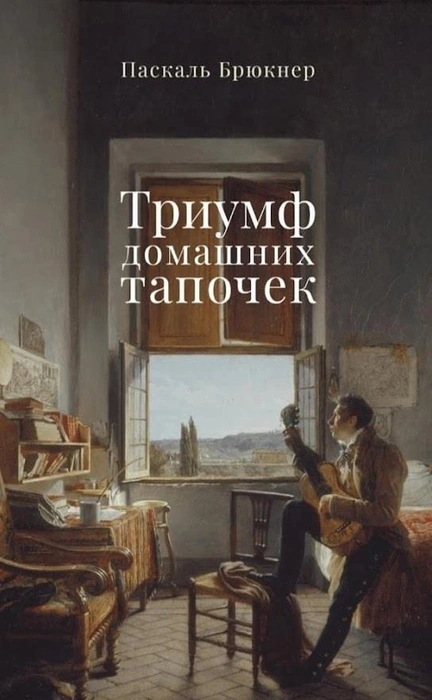
Пять лет назад нас всех загнали по домам — и в первые дни казалось, что всё пропало, раз привычный уклад рухнул. Но стремительно развились курьерские сервисы, офисные сотрудники расселись по домам на удаленке, школьники привыкли сдавать экзамены по видеосвязи — и весь мир, по мысли французского философа и антрополога Паскаля Брюкнера, превратился в Обломова, боящегося сменить халат на сюртук и высунуть нос за порог своей квартиры.
Казалось бы — что может быть полезнее и безопаснее добровольного отшельничества, тем более со всеми удобствами? Пока человек сидит дома, он не вытаптывает природу и не развязывает войн. Царь нашего века — домашний уют, ведь все больше людей выходит из карьерной гонки ради мирной жизни на природе и тихих радостей размеренного быта: нужно замедлиться, меньше потреблять, задуматься о душе. Однако Брюкнер видит в этой тенденции не меньше опасностей, чем в культе всеобщей невероятной успешности. Чтобы понять, как избежать крайностей, он анализирует сначала становление быта, каким мы его видим сейчас.
Повседневная жизнь не всегда считалась чем-то важным, за ее мнимой простотой кроется тайна. Это понятие ввела и прославила фламандская живопись XVII века. Подчеркнутое предпочтение, которое эта школа отдавала сюжетам в интерьере — женщина на кухне, мужчина, пишущий письмо, кормящая младенца мать, уснувшие солдаты, погруженная в книгу чтица, — означало решительный поворот: она выставляла на первый план бытовую сторону жизни, которой до тех пор пренебрегала как жанровая, так и религиозная или батальная живопись, в которой фигурировали сплошь святые и герои.
В том, что рядовые люди отныне стали считаться достойными изображения, заключалась великая новизна. Еще Гегель считал величайшей заслугой протестантизма то, что он заставил верующих обратиться к обычной жизни. Снаружи — хаос, внутри — мир, покой, благостные человеческие чувства. В этих картинах нет ничего незначительного — все изображенные на них вещи хороши, поскольку они существуют. Купцы, крестьяне, ремесленники, солдаты, проститутки — все представляют интерес как реальные типы. Это настоящая революция как в искусстве, так и в мышлении: возвышение обыденного и приземление возвышенного.
Самые простые занятия — такие, как чистка овощей, игра на флейте, починка стульев, туалет перед зеркалом, — ничуть не менее важны, чем коронация монарха или подвиги античных героев. Уважение к частной жизни — рамка, в которую вписывается любой человек со своими близкими: счастье домашнего очага, семейные радости достойны восхваления. Художник проливает свет на пеструю, разностороннюю повседневность. Обычный человек оттесняет личностей исключительных. Этот первоначальный реализм был проникнут, по выражению Фромантена, неповторимым «благоговением перед достоверностью». Он прозревал в обыденности апофеоз человека. На какое-то время снимал проклятие с материальности.
«Мода в стране дефицита», Наталья Папушина, Музей современного искусства «Гараж», 16+
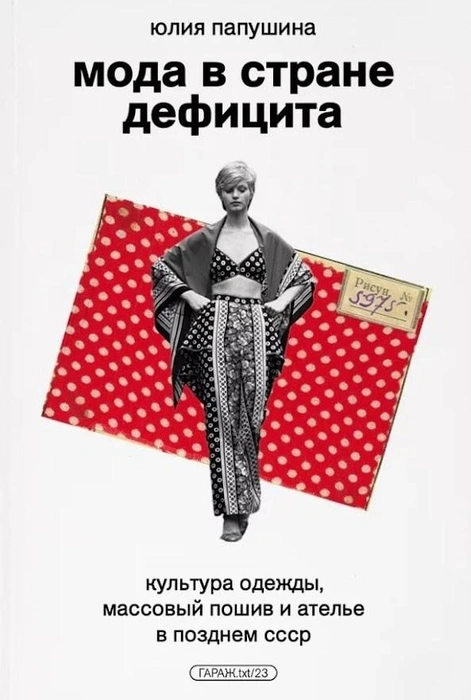
Есть два невероятно живучих мифа. Первый — о том, что в Советском Союзе невозможно было достать красивую одежду, потому что плановая экономика поставляла только практичные единообразные наряды для строителей коммунизма, а конкуренции среди модельеров не было, потому что не было рынка. Второй — что вся советская модная жизнь была сосредоточена только в Москве, Ленинграде и, может быть, еще в Таллине и Риге, потому что лишь там выходили крупные отечественные журналы мод. Но Папушина, исследуя архивы Пермского дома моделей, на их материале достаточно убедительно опровергает эти мифы, едва ли не впервые полно и подробно показывая другую картину: прогрессивных, смелых, а главное, вполне официально одобренных и легальных модных решений в городе, от которого до столиц больше чем тысяча километров.
Были важны как показатели «по валу», например «свыше 170 новых моделей одежды», так и демонстрация высокой квалификации. Для самооценки сотрудников Управления бытового обслуживания Пермской области важное значение имели отношения «центр — периферия». Проиграть Ленинграду, при этом «оттеснив на третьи, четвертые места изделия мастеров Кирова, Тюмени, Горького, Казани», было не зазорно. Подтверждает этот тезис выступление Зои Васильевны Никаноровой, директора фабрики № 1:
«Современным стало ателье „Элегант“, такое заключение дали москвичи и ленинградцы. Наши модели уступили только ленинградским, а модели трикотажного производства на семинаре в Кемерово заняли первенство. И восемь моделей занесли в коллекцию Москвы на 1968 год». Моделирование в индивидуальном пошиве обладало значительными материальными ресурсами, а контролировалось слабее, чем в Домах моделей Минлегпрома. Об этой свободе в интервью неоднократно говорили модельеры и манекенщицы. Одна из манекенщиц вспоминала экстремально узкие брюки, которые она демонстрировала во время просмотра в 1965 году, и необычный для того времени комбинезон:
«На каком-то из показов, перед 70-ми… У меня был комбинезон яркий, летний, очень эффектный. Я потом в нем ездила во Фрунзе и на Иссык-Куль, там останавливались машины, мне говорили: „Девушка, вы все движение перекроете!“ Так смотрели! И второй брючный костюм у меня был, я это показывала, я со знакомыми ездила в Гагры, и там поехали в Пицунду. И за мной бежали дети по Пицунде — что я иду в брюках! Мне было 18 лет, 66-й год, наверное. <…> Меня на Иссык-Куле не пустили в столовую в брюках! Сказали, что неприлично в брюках ходить в столовую».
Модели, которые разрабатывал экспериментальный цех, не только ориентировались на «среднего» заказчика ателье, но иногда и опережали уличную моду. А поскольку всей полнотой контроля, как идеологического, так и в плане вкуса, обладала художественный руководитель, можно предположить, что коллекции экспериментального цеха выражали индивидуальность художественного руководителя в гораздо большей степени, чем это было принято в то время.
«Мир — фильтр», Кайл Чейка, пер. Евгения Поникарова, 16+
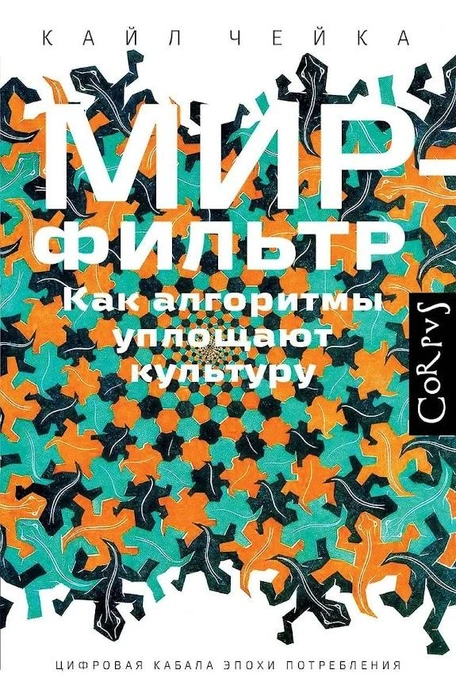
Еще буквально пара лет — и нейросети будут писать для нас книги, сочинять музыку и рисовать картины, причем справятся лучше, чем, скажем, смиренный автор этих строк. Или нет? Вдруг машинный интеллект падет под гнетом накопившихся мелких ошибок, а все успешные IT-стартапы окажутся постановками, где вместо нейросети результат обеспечивают сотни анонимных индийских программистов? Разбирается представитель одной из древнейших исчезающих профессий — журналист Кайл Чейка.
Он вспоминает, насколько давно с нами само понятие алгоритма, и объясняет, как же алгоритмы работают сейчас, подсовывая нам контент в ленты соцсетей, музыку в уши и книги для чтения. Чейка уверен: чтобы не идти на поводу у обнаглевших компьютеров, придется вспомнить некоторые древнейшие математические законы.
Около 820 года аль-Хорезми завершил работу «Книга об индийском счете», которая в конечном итоге привела к распространению в Европе современной системы записи чисел. Он также сочинил трактат о методах решения уравнений «Китаб аль-джебр ва-ль-мукабала» («Краткая книга о восполнении и противопоставлении»). От слова «аль-джебр» из названия (которое означает «восстановление, восполнение», то есть сокращение одинаковых членов в обеих частях уравнения) произошло слово «алгебра». В труде аль-Хорезми описывались методы решения квадратных уравнений и вычисления площади и объема, указывались приближенные значения числа π.
В середине XII века в Испании пересекались мусульманская, иудейская и христианская культуры — иногда мирно, иногда не очень, и между цивилизациями шел обмен идеями.
Живший тогда в испанском городе Сеговия английский востоковед Роберт Честерский в 1145 году перевел «Книгу о восполнении и противопоставлении» на латынь. «Аль-джебр» превратилось в algeber, а «аль-Хорезми» — в Algoritmi.
В то время слово algorismus относилось ко всем математическим операциям с использованием индийско-арабских цифр, а тех, кто занимался подобным искусством, называли алгористами. (Этим термином именуют себя визуальные художники, с 1960-х годов использующие алгоритмические процессы, однако он кажется подходящим для всех, кто работает над современной версией алгоритмов.) Такой длинный путь этимологии алгоритма показывает, что вычисления являются не только продуктом воспроизводимых научных законов, но и результатом человеческого искусства и труда.
«Балканские мифы. От Волчьего пастыря и Златорога до Змея-Деспота и рыбы-миродержца», Наталия Осояну, МИФ, 16+
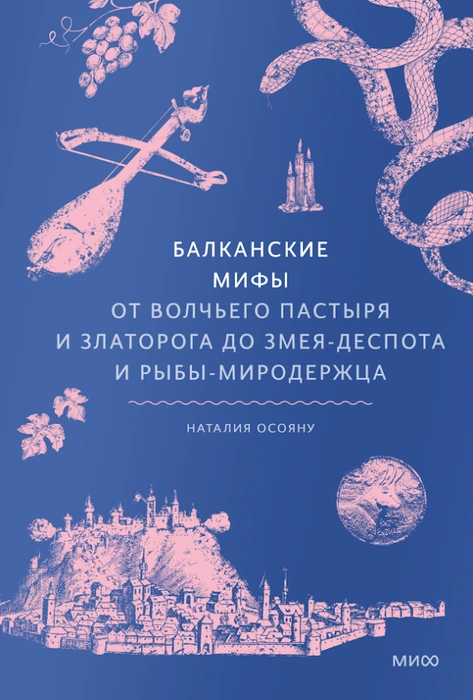
Писательница и переводчица Наталия Осояну много лет работает с фантастикой и фэнтези, поэтому, как никто другой, знает, насколько сильно самые смелые писательские фантазии бывают укоренены в мифах и фольклоре. Распутывать культурные отсылки и находить исторические корни сложных мест в переводах ей приходится много и часто, поэтому наработки в этой области неизбежно должны были накопиться. Почему бы и не представить их широкой публике, предварительно упорядочив? Читатели уже достаточно тепло приняли две ее книги в этой же серии издательства МИФ: «Румынские мифы» и «Мифы воды». На днях выходит третья, где мы увидим уже знакомую румынскую нечисть, но теперь в окружении соседей — как похожих до полного слияния, так и полностью других.
В отличие от домашней змеи, тень-хранительница бережет не конкретный очаг, с которым ее могут связывать родственные узы, и не определенную семью, а строение как таковое — им может быть не жилой дом, а мост, дворец, храм. Иными словами, змея привязана к семье, а сторожевая тень — к месту. Существуют также важные нюансы относительно того, как возникает эта тень. Происходит она из духа человека, чью тень — подлинную, обычную — тайком измерили и замуровали в фундаменте дома или моста.
Считалось, что на протяжении сорока дней после случившегося колдовства такой человек умрет от естественных причин, а его тень (иными словами, душа) останется стеречь вверенное строение до тех пор, пока оно будет стоять. Появляться она будет только по ночам, а днем останется невидимой для всех, кроме собак и тех людей, которые родились в субботу. У души-тени также появится возможность принимать облик какого-нибудь животного. Такой дух может называться таласон, телисум, тилисум, таласъм и так далее. Предположительно, это название произошло от древнегреческого слова τελεσμα (тэлесма; «плата, оброк»), хотя непосредственное заимствование случилось из османского, где tılsım, как и в современном турецком, означает «талисман».
«Происхождение вкусов. Как любовь к еде сделала нас людьми», Роб Данн, Моника Санчес, пер. Марии Елифёровой, 16+
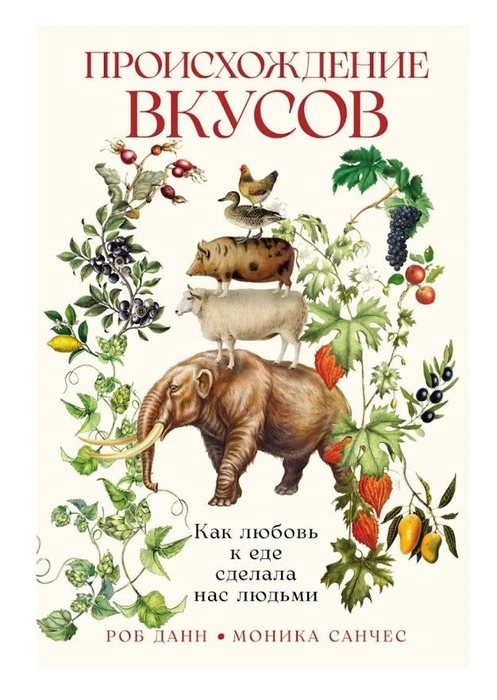
Данн и Санчес — муж и жена, биолог и культурный антрополог. Эта книга получилась от слияния их профессий, с одной стороны, а с другой — из соединения любви к науке с любовью к еде. Они, как признаются в предисловии к этой книге, однажды с удивлением обнаружили, что знают много исследований о том, как менялся рацион людей и животных с течением времени, что ели наши предки в разные эпохи, но при этом могут вспомнить слишком мало трудов, где ученые пытались бы разобраться, насколько вкусной была эта древняя пища. Как люди полюбили специи? Отличают ли мыши вкусное от невкусного или только полезное от неполезного? Какие механизмы заставляют нас любить одни блюда и не любить другие? Как именно работают наши вкусовые рецепторы? Какие вкусы изменили цивилизацию? В поисках ответов авторы ловко балансируют между разными областями знания и даже иногда пытаются шутить.
Животные, поедающие растения, будь то свиньи, люди или медведи, могут легко столкнуться с дефицитом азота в рационе. В среднем в организмах животных вдвое больше азота, чем в растениях (пропорционально массе их тел). Так каким же образом всеядные и травоядные виды справляются с этим дефицитом? Некоторые просто поедают вдвое (а то и в несколько раз) больше пищи, чем им требуется, и избавляются от излишков. Например, червецы, насекомые-паразиты, подобно тлям, пьют сахаристый сок, текущий по жилкам растения. При этом они усваивают из выпитого небольшие количества азота и столько сахара, сколько им нужно. Излишки сахара насекомые выделяют в виде сладких испражнений, которыми питаются муравьи, а люди порой едят как деликатес. (Считается, что манна небесная, упоминаемая в Библии, могла быть выделениями тамарискового маннового червеца, Trabutina mannipara, кормящегося на кустах тамариска.)
Однако млекопитающим подобный подход не годится. Более удачным решением представляется наличие вкусового рецептора, реагирующего на азот либо какое-нибудь соединение, характерное для пищи, богатой азотом. Но до 1907 г. не были известны вкусовые рецепторы, реагирующие на азот или содержащие его аминокислоты и белки в пище.
Как-то раз в 1907 г. Кикунаэ Икеда, профессор химии Токийского императорского университета, ел бульон, который изменил его жизнь. Бульон назывался даси. Икеда и раньше ел даси, но именно в этот раз поразился тому, какой он вкусный. Даси был соленый, чуточку сладковатый, к тому же там чувствовался привкус чего-то еще очень приятного. Икеда решил установить происхождение этого чрезвычайно приятного привкуса, который он позже назовет «умами». Слово «умами» происходит от японских слов «вкусный» (umai) и «сущность» (mi). Оно также означает «восхитительный вкус и уровень его восхитительности», а также «искусство, которым наслаждаются», особенно применительно к техникам живописи.
Рецепт даси на первый взгляд прост. Туда входят сухие хлопья ферментированного копченого тунца (кацуобуси), вода и иногда особая водоросль (комбу). Икеда знал, что вкус дает не вода. Значит, его давали либо рыбные хлопья, либо комбу. Все, что требовалось Икеде, — это идентифицировать, какое соединение в рыбных хлопьях или в комбу дает вкус, который, как ему представлялось, он ощутил, — вкус умами. Проще сказать, чем сделать. «Простой» бульон даси может содержать тысячи химических соединений, потенциально способных давать какой-либо вкус или аромат. Икеде пришлось выделять эти соединения и проверять их одно за другим.
Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».