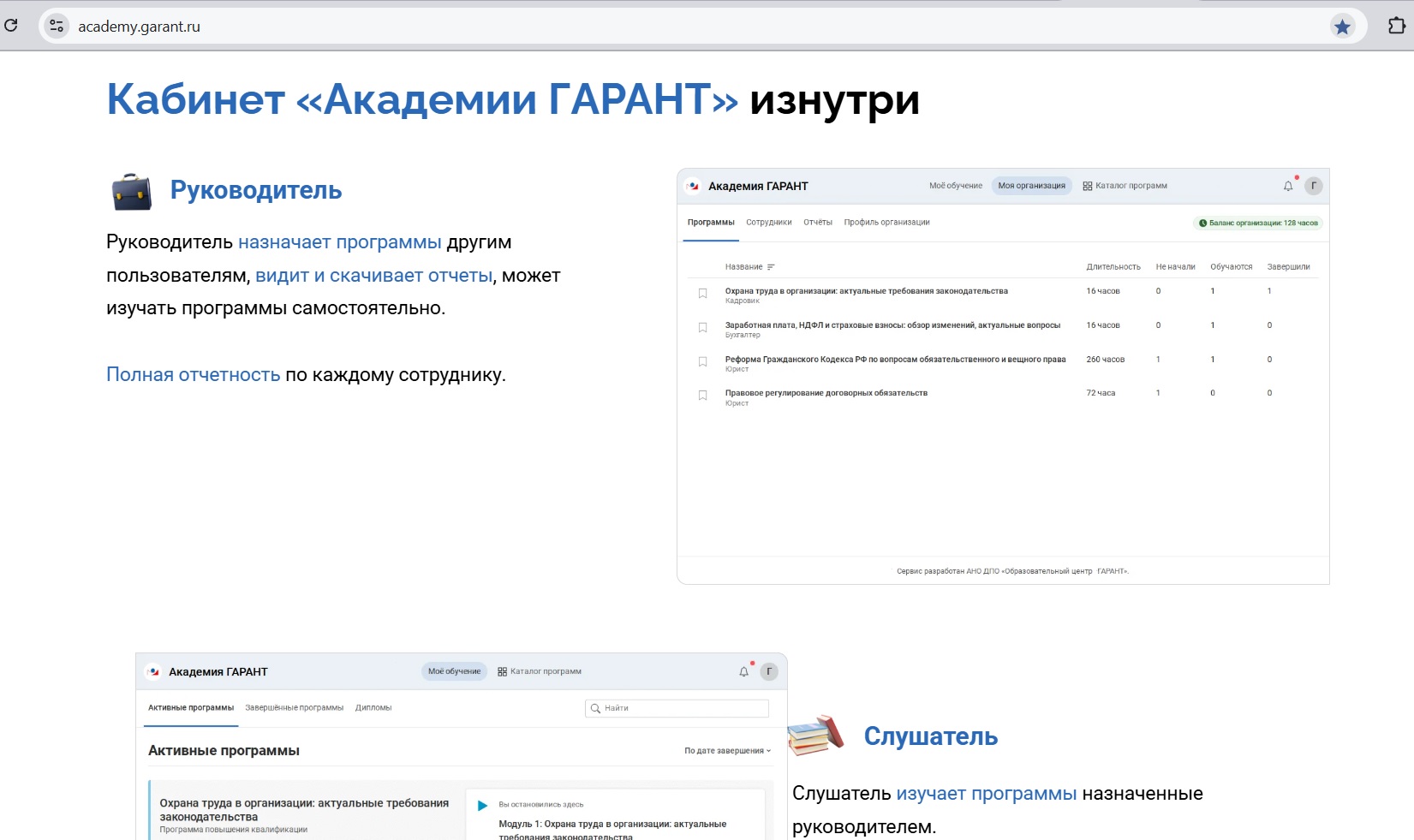25 марта с подачи спикера петербургского ЗакСа Александра Бельского в медиа завирусилось изображение статуи в честь участников СВО, которая вроде как появится «в одном из музеев» города.
«Ростовая скульптура воина с ребёнком на руках», — написал Бельский в своем телеграм-канале. Мужчина в полевой форме, бронежилете и каске, стоящий на шаре, обильно декорированном цветами, держит ребёнка и смотрит сверху вниз. До поста спикера про проект ничего не было слышно, сейчас же оказывается, что его планируют презентовать на конференции местного отделения «Единой России» в ноябре. По словам Бельского, руководить работой будет Валерия Лошак — выпускница Академии Штиглица и депутат МО «Аптекарский остров», которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как создательница самого большого в мире валенка. Кто автор проекта в целом — из немногочисленных сообщений неясно.
Зато с одного взгляда ясно, что скульптура отсылает к «Воину-освободителю» в берлинском Трептов-парке (скульптор Евгений Вучетич, архитектор Яков Белопольский, художник Анатолий Горпенко, инженер Сарра Валериус). Оно и понятно, если вы представляете позицию российского государства по актуальным событиям, но есть нюанс.
Скульптура Вучетича, в свою очередь, отсылает к сокровищу дрезденской Галереи старых мастеров — «Сикстинской Мадонне» (1512/13) Рафаэля Санти, то есть к самому сердцу немецкого культурного кода. Вместо Мадонны у Вучетича молодой мужчина, вместо Младенца — немецкая девочка. Это очень умно и талантливо найденный образ, сложно представить, каким пронзительным он был для Германии середины прошлого века. И, конечно, «Воин-освободитель» не может не напоминать иконографию Богоматери «Умиление». Вспомним, что Богоматерь Владимирскую традиционно почитали как заступницу государства, именно у неё искали защиты в дни бедствий. Словом, мастера столетиями оттачивали найденные решения, каждый угол и линия что у иконописцев, что у Рафаэля, что у Евгения Вучетича не случайны.
А теперь посмотрите, как держит ребёнка воин на представленном изображении — как будто автор композиции взял её буквально из реальности. Именно так действительно держат детей. Но скульптуре фотографическая точность не идёт на пользу — здесь нет наглядного взаимодействия взрослого и ребёнка, нет их общего пространства и силы образа, заложенной в иконографию. Это вовсе не художественный образ — нет условности, которая избавляла бы скульптуру от тщательной детализации в пользу героического. У того же «Воина-освободителя» в руке меч — наверное, не надо объяснять, что советские солдаты пришли в Берлин не с мечами. Меч опущен, настал мир — а в скульптуре, анонсированной Бельским, даже ребёнок одет в камуфляж. Образ будущего здесь не мирный.
Наконец, пьедестал. Воин стоит на шаре из керамических цветов. Из того же поста в «Телеграме» узнаём, что для «изготовления тысячи бутонов» потребуются усилия петербуржцев и с 31 марта «представители творческой группы будут еженедельно выезжать в районы, чтобы к осени свой вклад в общее дело могли внести все желающие». Даже для неподготовленного зрителя очевидно, что шар — неустойчивая форма; хотя были, конечно, прецеденты — оцените памятник Владимиру Ленину в Нижнем Тагиле и как неловко вождь мирового пролетариата смотрится на земном шаре. Очевидно, в шар из цветов люди вложат много труда, и он хорош как декоративный объект, но не как пьедестал для статуи воина.
Не секрет, что искусство скульптуры в России в глубоком кризисе. На то, что появляется в городах, можно смотреть как на криповые мемы, почему-то отлитые в бронзе, но правда в том, что это стыдные вещи. Особенно на фоне советского наследия. Конечно, масштабы «Воина-освободителя» и скульптуры, которую презентуют на конференции «Единой России», несопоставимы: скульптура Вучетича в высоту 13 метров, а петербургская будет 1,8 метра (плюс 1,6 метра — шар) и, судя по комментариям Валерии Лошак, вовсе будет находится в помещении.
Однако это хороший повод оглянуться и подумать, где мы свернули не туда. В Ленинграде создание любого памятника (вопрос, можно ли рассматривать анонсированный проект как памятник, пока что висит в воздухе) сопровождали профессиональные и общественные обсуждения. Эскизы даже небольших работ для парков, которые заказывали напрямую скульпторам без конкурса, проходили отбор. Конкурсы же проходили в несколько туров, и первый только выявлял общую идею, а конкретное художественное решение утверждали несколько лет. Даже автор, получивший первую премию, не мог рассчитывать на то, что его проект сразу реализуют. Именно так в городе появились знаковые памятники (а некоторые по этой же причине не появились, вы можете почитать об этом здесь).
Сложно сказать, восстанет ли из пепла отечественная скульптура из-за необходимости предложить будущим поколениям образ исторических событий, в которых мы сейчас живём. Это вопрос не отношения к самим событиям, а самоуважения и ясности мысли, не случайно скульптуры (хорошие) становятся символами и живут отдельно от изначального контекста. Так что за новостями о новых статуях стоит следить.

Искусствовед